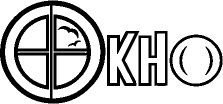Глава 8
Начало великой войны.
Дора
едет в Швецию, а я в Польшу с Красным Крестом. Первые соприкосновения с
войной,
наши постыдные поражения и чувство беспомощности перед ними. Я еду
обратно в Россию,
в Ясную, в Петербург и в Могилев
Лето 1914‑го года я в последний раз проводил в Ясной Поляне со всеми своими детьми и женой(1). Мы сидели на веранде большого дома, когда пришли газеты с первыми телеграммами о Сараевском убийстве(2).
Все сразу почувствовали, что война была неизбежна(3). Во всяком случае, это почувствовал я. Была ли готова Россия? Конечно, нет. Как разовьется война и какие будут последствия? Наконец, куда кто поедет и какое примет в ней участие?
Дора первая бесповоротно и сейчас же решила немедленно увозить детей в Швецию, а я говорил себе, что если она действительно уедет от меня, то я должен буду как‑нибудь принять участие в войне, скорее всего в Красном Кресте.
Уехать же вместе с семьей казалось мне тогда преступлением и подлостью. Два ясных чувства боролись во мне, - семья или Россия, Россия или семья? И я твердо решил, что если Дора останется со мной в Ясной или в Москве, я на войну не поеду; если же она уедет, то я сейчас же сам уеду с Красным Крестом, прежде всего, в Польшу.
Опасность разлуки с семьей беспокоила меня, но в то же время во мне внезапно проснулся новый человек, которого я сам еще хорошо не знал в себе, - проснулся русский.
Война?? Что такое война и для какой цели? Она убивает, искалечивает и разоряет миллионы. Почему?
Война - кара за нашу моральную слабость. Это кара мирового морального закона, от которого никто и ничто не может спастись. Война - это падение человека в область животного и нарушение порядка всех обществ<енных> и госуд<арственных> форм(4).
Уговорить Дору остаться в Ясной было невозможно. Она в этих случаях была, как лошадь, закусившая удила, и удержива<ть> ее было бесполезно. Тогда я поехал с моей семьей в Петербург(5), чтобы оттуда на финляндском пароходе отправить их в Стокгольм. Но когда мы приехали в Петербург, оказалось, что финские пароходы прекратили рейсы и единственная возможность ехать в Швецию была по железной дороге через Финляндию и северный ее город Наpаranda.
Еще раз я стал просить Дору остаться в России и вернуться в Москву, на что как будто указывала нам теперь сама судьба. Я говорил ей, что я тогда останусь с семьей и что это будет для всех нас лучше. Она упорно молчала, соображая в это время, как ей уехать.
С большим трудом я достал билеты обратно в Москву и с радостью принес их жене. Взбешенная, она силой выхватила их у меня и повезла продавать обратно на станцию. Оказалось, что она уже успела справиться о пути в Швецию через Нараrаndа и бесповоротно решила ехать. Я не стал больше противиться, и в тот же вечер семья оставила меня(6).
Оставшись один, я поступил в отряд Красного Креста, главой которого был А.И. Гучков и в котором работал также другой член Думы - Пуришкевич(7), и, собравшись, мы все вместе уехали в Варшаву(8).
Ужасна смерть, но война в бесконечное число раз ужаснее. Она - смерть насильственная и неестественная; кощунственное братоубийство и грубое, явное попрание людьми духа и разума. Чтобы уничтожить войну, надо, чтобы сотни миллионов людей проснулись для духовной жизни и деятельн<ости>.
* * *
В Варшаве я принимал поезда с ранен<н>ыми(9), устраивал госпитали, ездил с поручениями в другие польские города и крепости, посещал раненых немцев, австрийцев и венгерцев в варшавской цитадели.
Картины того времени ярко запечатлелись в памяти(10). Вот один из многочисленных и длиннейших поездов с ранен<н>ыми, прямо с поля сражения. Некоторые умерли по дороге, другие умирают. К ним спешат священники различных вероисповеданий. Молодой немецкий авиатор, которого красивые польские сестры Красного Креста хотят поднять с носилок, вскакивает на одну ногу сам, держа другую<,> раздробленную ногу<,> в обеих руках, и сердито кричит: "Sеlbst, selbst!"(11)
Другой, уже немолодой, желтолицый немецкий офицер с седой бородкой лежит на своих носилках и держит в костлявых руках пустую деревянную коробку из‑под сигар, может быть, последний подарок любимой жены. Он смотрит на меня своими прекрасными, светлыми глазами и блаженно улыбается. Чему? Не время было спрашивать его о том, что происходит в его душе(12).
Позднее ночью обхожу один из наших больших госпиталей на тысячу ранен<н>ых, помещавшийся в залах бывшего женского института. Многие тихо стонут, жалуются и просят помочь, но один кричит благим матом на весь госпиталь. Ему ампутировали ногу, и теперь, придя в сознание, он вопит: "Дайте ножик - я зарежусь! Дайте ножик - я зарежусь!"
А вот "больница", отведенная для тяжелораненых немцев. Ни одного доктора, один только фельдшер на несколько сот человек. В отдельной небольшой комнатке, человек на восемь безнадежных, несколько человек умирают без всякой помощи. У одного весь живот раскрыт и никто еще не помог ему.
На моем "мерседесе" и по спешному поручению я еду в крепость Ивангород(13), из которой бежит население.
Арбы, полные доверху еврейскими семействами, встречаются на пути. Красивые курчавые головки еврейских детей похожи на грозди черного винограда. Повозки сторонятся, но некоторые сваливаются в канавы.
Мы давим собак, отбрасываем с дороги телят и летим со скоростью 100 верст в час под угрозой австрийских патрулей, которые показываются вдали, но, к счастью, направляются в другую сторону.
А вот операция трепанации черепа в больнице. Вся верхняя часть головы спилена и лежит на столе, как чашечка. Доктор копается в мозгу и находит в нем кусочек шрапнели. Вот молодой немец, почти мальчик, ходит среди легко раненных. Русский казак шашкой рассек ему все лицо. Как ребенок, он плачет, когда русская сестра подходит к нему и по‑немецки спрашивает, как он себя чувствует.
Я не был подготовлен к войне вместе со всем остальным русским народом, но после нашего постыдного поражения при Танне<н>берге(14), когда 150 000 русских были окружены двойным кольцом Гинденбурга(15) и треть из них была перебита, как телята, а две трети взяты в плен (только малая часть их добралась живая до Варшавы, те самые раненные, которых я принимал на вокзале и помещал в госпитали), - я понял, что для нас война былa уже проиграна и вести ее дальше было бессмысленно.
Уже в Петербурге, уезжая на фронт, когда лично знакомый мне военный министр Сухомлинов(16) наивно заявил мне, что "мы будем воевать - с Царем и молитвой", - я почувствовал глубокий ужас перед тем, что нас ожидало.
Не вина была генерала Самсонова(17), что он был разбит, не заслуга Гинденбурга, - вина была в отсталости России, в ее гнилом обществе и диком народе, в ее допотопной религии, в ее допотопной мысли, в ее слабом царе, а главное, в ее политической незрелости и дурацком франко‑русском союзе(18).
Нам предстояли бесконечные поражения, против которых спасения не было.
Когда позднее в Петербурге я говорил генералу Лукомскому(19), заведовавшему снабжением армий, что надо было спешить заказывать в Англии пушки, - он удивленно спросил меня: "Пушки? Вы думаете?"
Он, как и я, как и все, смотрел на эту войну безнадежно.
Вспоминаю эти шальные дни, как тяжелый кошмар, от которого нельзя было проснуться и из которого не было выхода.
Трудно определить то хаотическое и отчаянное состояние души, в которое ввергла меня война. Что‑то грубое, не похожее на меня, поднялось во мне: с одной стороны, безнадежность перед всё уносившей бурей, с другой - чувство освобождения от всего условного, что связывало меня с другими. Всем и каждому всё было "море по колено" - настроение, которое французы называют "lâche tоut"(20). И чем чувствительнее были люди, тем сильнее это настроение овладевало ими.
По отношению к самой войне и <по поводу> моего дальнейшего участия в ней у меня, во‑первых, было сознание бесполезности этого участия, так как если бы я даже бросился в самую ее бойню с дубинкой в руках вместо ружья, как это было с нашими солдатами на Карпатах(21), - это было бы безумием; во‑вторых, я испытывал глубокое чувство оскорбления за то, что мое правительство ничего не сделало для отвращения бедствия или для того, чтобы с достоинством встретить его, если оно было неотвратимо; в‑третьих и в главных, я видел полную бессмыслицу этой войны, безумие со всех точек зрения и потому участвовать в ней мне казалось унизительным.
Может быть, я поступил нечестно, оставляя Красный Крест, - но мой разум подсказал мне сделать это<,> и я вернулся в Россию, надеясь помочь народу иначе<,> внутри страны, прежде всего в продовольственном вопросе, который становился все более и более катастрофическим(22).
Запасы хлеба и провианта для армии и для народа таяли не по дням, а по часам, и я видел, что, если это будет продолжаться еще несколько месяцев, мы не только проиграем войну, но после нее не опомнимся в течение долгих лет.
В то время Царь, по наущению Распутина, сам взял в руки командование армиями и поселился со своим штабом в городе Могилеве(23).
Вернувшись на несколько дней в Ясную, где в одиночестве жила моя мать со своей компаньонкой Ниночкой, дочерью местного священника, я проехал оттуда в Петербург, а из Петербурга к царю, чтобы объяснить ему, в каком положении находилось продовольственное дело с тогда назначенными правительством "твердыми ценами на хлеб"<,> и <убедить его,> что эта мера была не только недостаточной, но губительной, так как она не препятствовала вывозу и растрачиванию продовольственных запасов, на что прежде всего надо было обратить главное внимание(24).
Надо было немедленно реквизировать весь хлеб по всей России и остановить его утечку за границу.
Страшно сказать, что в продолжение первых лет войны <каждый день> мимо моего дома на Таврической тянулись к Финляндскому вокзалу длиннейшие обозы с русским зерном, которое через Финляндию спокойно пересылалось в Германию.
В Могилеве Царь не принял меня, ссылаясь на то, что у него не было времени, но просил передать ему мою записку(25). Чтобы объявить об этом, ко мне в гостиницу приехал мой старый товарищ по Поливановской гимназии флигель‑адъютант граф Дмитрий Шереметьев(26) и с ним польский князь Замойский(27).
Разочарованный, я вернулся в Ясную(28), где в ее тишине начал писать поэму, главными мужскими лицами которой я представлял себя, отца и брата Андрея. Не знаю, цела ли в Яснополянской библиотеке эта рукопись(29).
Наступила холодная зима и, несмотря на войну, в тишине и покое с моей любимой, теперь кроткой старушкой-матерью, по‑прежнему целые дни работавшей, - я временно почувствовал душевное умиротворение:
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв, -
Мы рождены для вдохновенья,
Для
звуков сладких и молитв(30).
Я читал моих любимых писателей: Пушкина, Мопассана(31) и Диккенса(32), лепил голову хорошенькой, курносой Ниночки(33), в лунные ночи ездил с ней на станцию за почтой, играл на фортепьяно, сочиняя мелодии, писал мою поэму, с волнением следя за войной(34).
Я добровольно поехал на нее, как и добровольно оставил, и вдруг странное, невероятно сильное желание жить и жить совсем иначе, чем я жил раньше, овладело моим существом. Неудержимая жажда новой счастливой жизни <нахлынула на меня с такой силой>, что как‑то вечером, когда я был один в моей комнате, вся сила моей любви к Жизель(35) внезапно охватила мою душу. Тогда я сел к столу и написал ей горячее, страстное, короткое письмо, в котором еще раз повторил, что я любил и буду любить до конца жизни ее, ее одну. Дойдет или не дойдет до нее это письмо, - все равно на душе у меня стало легче.
Глава
9
Брат Андрюша и братец
Тимофей
Хотя между нами было восемь лет разницы, мы были очень близки с братом Андрюшей, понимая друг друга без слов и часто мысля одинаково.
Я очень любил его за его милый, добрый и прямой нрав, за его нежную любовь к нашей матери, за его страстность, музыкальность и безумную любовь к женщинам и жизни.
У
него не было голоса, но никто так верно и выразительно, именно так, как
надо
было, не пел: "Как под яблонькой такой", нашу тульскую лучшую,
старинную
народную песнь, которую я аккомпанировал ему. Он знал старинные слова
этой
песни, например:
А их звонкие копыта
Крупным жемчугом
подбиты…(36)
Когда
же он переходил к своей любимой песне: "Две гитары за стеной", он был
бесподобен, со вкусом выговаривая куплеты этой песни:
Поздно, вечер, огоньки…
Пыльная дорога.
Васильки <-> глаза твои…
На
душе тревога(37).
Песни переворачивали всю его душу, и под их влиянием он любил, волновался и жил, заражая других своим возбуждением.
Он не любил русского народа и называл крестьян разбойниками и ворами.
По взглядам он был монархист и православный, но глубже этого он не шел, так как в бурной его жизни у него никогда не было времени подумать.
Он был женат два раза, но имел за свою короткую жизнь десятки, может быть, сотни женщин, познав их уже мальчиком двенадцати лет.
От первого брака у него было двое детей и одна девочка от второго…(38)
Он был слишком храбр во всех смыслах. Он объезжал неукротимых лошадей, падал с ними и ломал себе зубы; переходил Волгу по льдинам во время ледохода; во время японской войны получил за храбрость солдатский Георгиевский Крест(39).
Но в то же время он был необыкновенно мягок, нежен и ребячлив и, когда бывал у меня в Петербурге, весело играл с моими детьми, бегая с ними по комнатам и бросая их по очереди на кавказскую нашу тахту.
Он пил не много и не часто, - это не было его главным пороком, он не играл в карты, ибо женщины заменяли ему всё.
Все любили Андрюшу, даже те, которых он осуждал; любили его и оба наши родителя(40).
Под конец жизни он получил в Петербурге хорошее место, благодаря дружбе с министром земледелия Кривошеиным(41), и, наняв темную и мрачную квартиру на Фурштатской улице, во время великой войны поселился в ней.
Как я сказал, я жил тогда в Ясной у матери, недавно вернувшись с фронта, когда в феврале 1916‑го года мы неожиданно получили телеграмму от второй жены Андрюши, Кати, о его внезапной болезни(42).
Как это бывает, мы сейчас же почувствовали, что болезнь Андрея серьезная, и на другой же день уехали в Петербург(43).
Я вспомнил тогда странный сон, который недавно приснился брату и который он рассказал мне. Ему приснилось, что его хоронили и выносили его тело из квартиры. На похоронах был министр Кривошеин, много друзей и две его любимые цыганки из хора.
- Неужели этот сон был предзнаменованием? - подумал я.
Он болел какой‑то странной болезнью, которую "лучшие" доктора Петербурга не могли определить. Страшный жар и резкие боли в животе, от которых он кричал, не переставая, две недели подряд(44). Началось после обеда у его друга Языкова(45), где он ел какую‑то вареную рыбу.
Отравился ли он ею или рыбья кость прободила его слабый желудок, или это было простое воспаление слепой кишки, которую, м<ожет> б<ыть>, следовало оперировать, - так никто никогда не узнал.
До сих пор я слышу его громкий жалобный крик: "Ой, ой, ой!". Все мы, его родные, собрались в его темной квартирке и в последний день, когда началась агония, сидели в гостиной рядом со спальней, где он лежал(46). Внезапно, среди этой мрачной тишины, за стеной квартиры раздалось чудное пение дуэта Форда(47):
"Vous qui pleurez, venez à Lui car il demeure"(48).
Пели два прекрасных голоса, - мужской и женский, - и Андрюша умирал под эту чудесную музыку, точно нарочно для него заказанную. Мы замерли от волнения - так удивительно красиво и сильно было это впечатление.
На другой день Андрюша уже лежал в гробу, румяный и свежевыбритый (он накануне просил, чтобы его обрили), - с тихой, доброй улыбкой на своем чистом молодом лице(49).
Его похоронили "по первому разряду" в Александро‑Невской Лавре(50) рядом с убитым премьером Петром Столыпиным.
На похоронах был министр Кривошеин и две цыганки из Стрельны, как он видел во сне.
В Ясной, куда я свез мать обратно(51), смерть Андрея произвела не меньшее огорчение.
Его старая нянька Анна Степановна(52), крошечная старушка восьмидесяти двух лет, доживавшая свой век в Ясной, была поражена и опечалена больше других.
- Рано успокоился, голубчик, - повторяла она, качая маленькой сморщенной, но еще не седой головой.
Но больше всех был огорчен бывший Андрюшин кучер, Тимофей, незаконный сын нашего отца от яснополянской крестьянки, наш "старший братец", как его называли мужики, родившийся до женитьбы отца(53).
Тимоша был до смешного похож на портреты отца, снятые до его женитьбы, похож гораздо больше, чем кто‑либо из нас, законных сыновей.
Андрюша, по доброте сердечной, взял к себе Тимофея в кучера, так как в последние годы разбогател и завел свой конный завод. Они сблизились, как настоящие братья, чему еще содействовала их общая страстная любовь к лошадям.
Несмотря на это, Тимофей неизменно держал себя с необыкновенным тактом и, когда подъезжал к крыльцу яснополянского дома на тройке Андрюшиных бойких лошадей и отец встречался с ним на крыльце, он почтительно и скромно снимал перед ним шапку и тихо говорил: "Здравствуйте, Ваше Сиятельство".
Когда после смерти брата я вернулся в Ясную, Тимофей пришел ко мне в кабинет узнать подробнее обо всем случившемся. Он никогда раньше не приходил ко мне, теперь же вошел ко мне просто, точно бывал всегда. Он стал у теплой печки, как, бывало, становился отец, с руками за спиной, и печально слушал мой рассказ, вытирая слезы.
От волнения и горя он не мог говорить. Я был тоже тронут до слез.
Благородный, чувствительный, умный братец Тимоша! И тебя теперь уже нет в живых.
Русская буря сломила и твое крепкое тело. Большевизма переварить ты не мог.
- Не ценили! Не ценили мы того, что было у нас раньше! - повторял Тимофей яснополянским мужикам перед смертью. - Так и надо нам, дуракам!
Тот, кто еще верит в коммунизм, да поверит Тимофею, что в царской России было больше счастья, больше свободы, больше достатка и меньше принуждения, лжи и мракобесия.
Глава
10
Ясная и Madeleine.
Отъезд в
Японию. Владивосток, Цуруга, Токио и Киото. У писателя Токутоми. Отъезд
в
Америку, Гонолулу и отречение царя
Я описываю мою жизнь, не щадя себя по возможности. По возможности, потому что жизнь моя временами была настолько дурной, нечестной и безнравственной, что я не в силах признаться во всех моих низостях. Утешаюсь мыслью, что эти страницы помогут людям в том смысле, что укажут им еще раз на примере моей жизни, что надо и чего не надо делать, чтобы вовремя спастись от лишних страданий.
Я рассказываю о себе не из желания показаться не тем, какой я есть, а тем самым, каким я был и есмь, со всеми моими страстями и пороками, раскаиваясь в том, что я не был над ними хозяином и до сих пор не могу освободиться от них.
Если
получились какие‑либо определенные выводы из моих переживаний, то они
изложены
в последней части этой работы, которую я написал во Флоренции и
озаглавил "Lungarnо". В этой книге я продолжаю описывать мою жизнь и
скитания и
только
временами отвлекаюсь от них в область мысли.
* * *
С того дня, как Дора с детьми оставила меня(54), я невольно охладел к ней и в моем одиночестве невольно теперь почувствовал себя свободным, каким я не был никогда прежде, хотя я сам этой свободы не искал. Мне казалось, что связь моя с семьей, может быть, навсегда порвалась. Если жена бросила меня и Россию в такие времена, несмотря на мои просьбы не делать этого, если она не поняла тех чувств, которые война разбудила во мне, она не только перестала быть в моих глазах той женой, какой должна была быть, но совершенно охладила мое чувство к ней. Я не осуждаю ее. Я понимаю те чувства и инстинкты, которые заставили ее вернуться в Швецию, главное, для детей, но все же я не мог спокойно и доброжелательно отнестись к ее поступку.
Летом 1915‑го года я недолго гостил в последний раз в Halmbyboda(55), но ничего не помню об этом времени, так напряженно я жил моей личной русской жизнью и интересами(56). Но на лето 1916‑го года я остался в Ясной(57), думая, что моей матери будет со мной не так одиноко и что сам я, подле нее, буду спокойнее. Деревенская тихая жизнь Ясной меня привлекала как спасение от бушевавшей кругом бури.
По временам я ездил из Ясной в Москву и Тулу и, к стыду моему, не раз предавался моей страсти - игре, без которой, казалось мне, я не мог тогда жить. Мне нужно было временами это сильное возбуждение, чтобы не думать о моей жизни и моей любви и в чаду азарта забываться и утомляться до последней крайности(58).
Однажды осенью, вернувшись из Тулы, где в "Петербургской"(59) гостинице я сражался в "железку"(60), я вбежал в яснополянскую залу, в которой все уже сидели за обедом. И неожиданно, точно в первый раз в жизни я испытывал это впечатление, был до такой степени поражен красотой молодой женщины, сидевшей за столом между двумя детьми, - моим племянником Володей и племянницей Сашей(61), детьми брата Миши, приехавшими погостить у бабушки в Ясной, - что не мог отдать себе отчета <в том>, что эта встреча так взволновала меня.
Бледная, с черными, почти синими волосами, высокая и стройная, с большими, орлиными глазами и веселой, живой улыбкой на губах, Madeleine привлекла меня с первого взгляда. Она понравилась мне совершенно иначе, чем Жизель. Та заинтересовала меня своей серьезностью и умом. Эта <-> своей красотой и веселым, простым нравом. Француженка из Dauphine(62), она несколько лет уже была гувернанткой в России.
Если бы не война, если бы не мое одиночество, если бы не случайности, если бы я был сильнее духом и слабее телом, <если бы> я не был в самом сложном и трудном возрасте жизни - мне было 47 лет, - я бы <не> обратил на Madeleine никакого особенного внимания. Но вследствие множества факторов и причин, действовавших как с моей, так и с ее стороны, в первый же вечер, когда дети легли спать и мы остались одни, я разговорился с ней<,> и она рассказала мне свою жизнь. На другой день мы ходили вместе с ней и детьми по голым осенним полям, разговаривая, как старые друзья, и уже в этот день мы как‑то невольно и естественно были физически привлечены друг к другу, хотя и очень невинно.
Гуляя, мы подошли к опушке леса Засеки, где стоял большой стог сена. Под стогом был сделан пролет для воздуха в виде коридора. Дети полезли в него, чтобы проползти вдоль до другого выхода. Я нагнулся, чтобы взглянуть на них, и Madeleine сделала то же. Случайно в эту секунду наши лица встретились совсем близко и наши губы коснулись друг друга. Все это случайно, хотя причина лежала глубже. Одно и то же желанье, одно и то же одиночество сблизили нас.
Весь вечер этого дня до поздней ночи я просидел в комнате Madeleine, и мы говорили, говорили без конца обо всем и о том, как хорошо было бы уехать вместе куда‑нибудь далеко, в Индию, например, или в Китай и cкрыться, надолго спрятаться от ужасов России и Европы. Madeleine стала нравиться мне все больше не только своей наружностью, но и характером. Она рассказала мне, между прочим, что одним из ее близких предков был знаменитый фран<цузский> художник наполеоновской эпохи(63), что у нее были старые родители, сестра и брат(64).
В одинаково приподнятом, неуравновешенном, повышенном настроении, не зная, что будет с нами завтра, и вместе с тем стремясь к более счастливой новой жизни, мы без слов понимали друг друга.
- Что, если мы уедем вместе, я буду всюду читать лекции, а вы будете моей секретаршей, - говорил я ей полушутя, полусерьезно, - через Сибирь мы проедем сначала в Японию, потом в Китай, в Австр<алию>, в Индию. Потом мы проедем в Америку и вернемся богатые во Францию, когда война будет кончена.
Madeleine слушала меня, весело блестя своими большими глазами и улыбаясь. Чем больше мы болтали, тем <большe> наши мечты стали казаться нам возможными осуществить<cя>.
Не буду подробно описывать, как две недели спустя я оставил старую мать, которая провожала меня на лестнице яснополянского дома и с грустью сказала мне, что мы никогда больше не увидимся(65). Не буду рассказывать, как я выиграл в карты большую сумму и потом часть ее проиграл(66). Тимофей(67) отвез меня в Тулу на станцию и, прощаясь, с грустью проговорил:
- Один граф оставался у нас и тот уезжает.
Наконец, в декабре, проехав всю Сибирь, я с волнением ждал Madeleine во Владивостоке.
В день моего отъезда из Москвы(68) у нее не был готов ее паспорт и потому она должна была приехать одна. Она жила теперь в Москве, на Петровке, во французском пансионе(69), оставив свое место у моего брата.
Был канун Рождества, когда она, наконец, приехала. Но и тут меня ожидали тяжелые волнения.
Какой‑то поклонник Madeleine, студент, влюбленный в нее и желавший на ней жениться, приехал с ней из Москвы. Приехала и какая‑то таинственная дама, с которой она познакомилась в вагоне и которая пригласила ее на Рождество на елку на свою стоящую вне города дачу.
В день Рождества я до поздней ночи один ждал возвращения Madeleine в отель, где я нанял для нее комнату, и наконец, встревоженный, я взял автомобиль и ночью поехал искать её по обледенелым окрестностям. С трудом я, наконец, нашел дачу, где она должна была провести вечер, но китаец-слуга сказал, что дамы уже уехали куда‑то.
Я вернулся в отель, и только через час после моего возвращения приехала с елки Madeleine.
На другой день я поставил ей строгим условием или ехать со мной в Японию, как было решено, в качестве секретарши, или я отправлю ее обратно в Москву. Она согласилась ехать со мной, и на следующее утро(70) небольшой русский пароход повез нас из Владивостока в Цуругу(71).
Огромного роста девушка, похожая на мужчину-великана, спросила меня вечером, готовить ли для нас две отдельные каюты или одну. Я ответил ей, что одной нам будет довольно.
Я никогда в жизни не видел такого громадного и уродливого человеческого существа, в то же время молчаливого и добродушного.
Когда пароход отчалил от берега, я подумал, что, может быть, никогда больше я не вернусь в Россию. Что‑то совсем новое началось в моей жизни, что‑то бесшабашное и в то же время роковое.
В эту ночь Madeleine сделалась моей новой тайной женой, и я был счастлив, что случилось так. Когда‑нибудь, думал я, я сделаю ее женой явной, если захочет судьба.
Ночь мелькнула, как минута, и мы подошли к японскому берегу. Свет и солнце. Зелено-синие морские волны на фоне чистого белого снега и темной зелени. Свет и солнце. Это Цуруга. Со станции железной дороги слышится какой‑то странный стук. Это лязг деревянной японской обуви по доскам платформы. Мы сходим с парохода, садимся в японский чистенький поезд, едущий в Токио.
От Японии у меня осталось самое светлое воспоминание. Я полюбил ее энергичный, жизненный <жизнелюбивый?> народ и оценил громадный прогресс, сделанный им за последние 50 лет. Куда <бы> я ни приезжал и где бы ни читал мои лекции об отце и России, всюду я встречал самое искреннее внимание и интерес(72). С кем <бы> я ни встречался, все были гостеприимны и милы(73). В лучшей гостинице <в каждом городе> нам предоставляют две комнаты.
В Токио тогда издавалась газета одним из братьев Токутоми(74), которые когда‑то были в Ясной, - другой брат был известный писатель-беллетрист(75). <Он> жил в деревне, дав после смерти своего отца обет безвыездно пробыть в этой деревне три года(76). Когда он узнал о моем приезде, он прислал за мной в отель автомобиль с красавцем шофером и своей прислугой японкой.
Через весь город Токио и его бесконечные пригороды мы выехали, наконец, в японскую деревню, любуясь на окрестности и гордую Фудзияму(77). Наконец, после долгих скитаний наш автомобиль остановился перед пустынной дачей.
Какой‑то японец в очках и кимоно медленно шел к нам навстречу, а справа на кладбище в это время раздавались какие‑то дикие крики.
- Это, может быть, ловушка? Никакого Токутоми здесь нет? - полушутя сказал я Madeleine, которая пугливо оглядывалась по сторонам. - Вы слышите крики на кладбище? Это для нас роют могилу!
Но вот человек в очках с улыбкой подходит к нам, кланяется и ведет в свой дом. Мы подходим к крыльцу, снимаем обувь и входим в большую светлую комнату, всю заставленную книгами. Г<оспожа> Токутоми(78) предлагает нам сласти, а сам хозяин исчезает куда‑то, потом возвращается и, все также мило улыбаясь, молча кладет передо мной лист белой бумаги со множеством надписей. Я узнаю почерк отца и матери, потом братьев и сестер и, наконец, мою собственную <надпись>.
Я взглянул в доброе лицо хозяина, который теперь громко и весело смеялся, видя, что мы убедились, наконец, в том, что он был действительно Токутоми. После короткой беседы нас повели в столовую, где на подушках вокруг крошечного столика мы ели рис палочками и еще какое‑то блюдо(79).
Очень красивое впечатление произвел на меня древний город Киото(80), где в университете я читал лекцию студентам. С необычайным вниманием они слушали меня и моего переводчика. Но мой милый поэт так увлекался, переводя мои английские фразы на японский язык, что речь его иногда длилась <бесконечно долго>, тогда как моя фраза занимала не больше минуты(81). Он был поэтом и литератором и, очевидно, страстным поклонником Толстого. Он написал Madeleine стихотворение о ее чудных "орлиных" глазах.
В Киото я посоветовал студентам возможно больше выходить из национализма в область интернациональную. Теперь бы сказал им это иначе: будьте национальны в лучшем рациональном смысле, чтобы быть в состоянии служить в области интернациональной.
В то время в Кобэ(82) было толстовское общество под названием "Самовар", которое мы тоже посетили. Молодые члены его преклонялись перед толстовскими идеями, но произвели на меня слабое впечатление.
В Осаке(83) мы видели большой пожар - одно из тех стихийных страшных бедствий, которые возможны только в Японии.
Жутко было смотреть на громадное зарево, осветившее темную ночь, на растерявшиеся фигуры людей и густые облака дыма, на громадное пространство покрывавшие горевший город и окрестности.
Японские дети на спинах их матерей пленили меня своим цветущим здоровьем и детской красотой. Вся страна оживает.
Пробыв в Японии около двух месяцев, мы решили ехать в Америку, где, <как> нам казалось, будет легче заработать <на> жизнь. Мои японские лекции дали нам мало, а расходы были большие, и мы на какое‑то <время> отправились в Сан‑Франциско на японском тихоокеан<ском> пароходе(84).
Радостное и сильное настроение было у нас в водах Тихого Океана. Летающие рыбки, залетавшие в каюты и падавшие на наши койки; чудесные звездные ночи; веселая, прелестная Madeleine, с которой мы сочиняли сценарии и готовили лекции.
Кажется, больше недели мы плыли по океану, не видя земли, пока, наконец, наш пароход не причалил в Гонолулу(85). Куча журналистов окружила меня, показыв<ая> последние, кажущиеся мне чудовищными, телеграммы из России: "Керенский - премьер"(86) и "Царь отрекся от престола!"(87).
- Кто такой Керенский? Что будет теперь? - спрашивают меня.
- Керенского я не знаю, но думаю, что это величина ничтожная, - отвечаю я, - и будет все хуже и хуже.
- Это ваша жена? - спрашивает меня один из журналистов, с восхищением глядя на красавицу Madeleine, которая вся в белом платье, свежая, самая белая, была прекрасна. Никогда еще я не видел ее такой. Она услышала вопрос журналиста и быстро по‑французски шепнула мне: "Dites que si"(88). Чтобы сделать ей приятное, я ответил ему утвердительно.
В Гонолулу мы оставались недолго, но все же успели осмотреть лучший в мире аквариум, который неожиданно раскрыл передо мной тайны глубин Тихого Океана. В нем скрывается какое‑то бесконечное количество видов рыб: монголовидные, птицеобразные, лошадинообразные, рыбы‑зебры, обезьяны, собаки, змеи, - всевозможные прототипы всех земных живых существ, в том числе и человека(89). Это доказывает с очевидностью наше происхождение из океанов. Путем скрещивания, в продолжение миллионов лет и по мере постепенного осушения морей и образования материков, когда эти существа стали жить на суше, они создали тот животный мир, который мы знаем.
Гонолулу мне памятен еще и тем, что с этого дня я стал упорно думать о моей теории движения на восток, которую читатель найдет в III‑ей части этой работы - "Лунгарно"(90).
Эту теорию или гипотезу я считаю самым важным пунктом в области моей интуитивной мысли и моих наблюдений.
Будущее подтвердит это убеждение. Громадным, не сравнимым ни с чем благом будет для человека быстрое движение его на Восток, когда оно сделается возможным и всеобщим практическим средством его омоложения и оздоровления.
Эта теория - величайшее открытие, когда‑либо сделанное на земле. Над ним саркастически улыбались мои современники, в том числе люди науки, говоря, что в движении на запад или на восток нет никакой разницы, но я так глубоко убежден в благотворном влиянии движения на восток, что ничто не может поколебать меня в этом. Я думаю даже, что оно откроет людям путь к физическому бессмертию.
Глава
11
Сан-Франциско. Брат
Илья и
Трубецкой. Клуб писателей. Письмо из Франции. Инцидент в Чикаго.
Нью-Йорк.
Madeleine беременна, и мы решаем вернуться в Россию. Ниагара и
Ванкувер. Мы
едем в Японию. Коммунисты из Америки. Ночная тревога и болезнь Madeleine
Моя дурная и бурная жизнь промелькнула, как молния, и вот я уже старик, хотя не хочу в этом признаться. Страсти стали слабее, разум - сильнее, и, может быть, лучшее, что я могу теперь сделать, - это оставить после себя самое важное - искреннее и полное признание перед миром в моей негодности.
Эти воспоминания кратки и отрывочны, нет времени входить в подробности и художественные детали, все же я хочу вспомнить главные уроки, данные моей судьбой. Жизнь человека - не один роман, а множество, она - целая поучительная поэма, если описание ее правдиво. Она - пример того, как не надо жить и как надо. Но если страдания - сама жизнь, а жизнь - постоянное страдание, то можно ли научить другого, как их избегнуть<?> Так или иначе, страдания неизбежны. Все же, кажется мне, мы могли бы не засорять и не портить нашего существования лишними ошибками. М<ожет> б<ыть>, жизнь не должна быть вечным страданьем, а <должна быть> вечной радостью и счастьем. Если бы нас в молодости предупреждали об опасностях, ожидающих нас на жизненном пути, мы бы спасались от многих бедствий. К сожалению, это делается в очень слабой степени или совсем не делается, и потому, когда страсти овладевают нами, мы не в силах их сдерживать, куда бы они ни привели нас. С другой стороны, в хаосе несправедливого и жестокого мира тысячи случаев и событий содействуют распущенности наших эмоций, за которыми следуют пороки.
Когда я вспоминаю сейчас состояние моей души в период мировой войны, я вижу, что она была совершенно затемнена страстями, которые я не хотел и не мог сдерживать. Они с такой силой овладели мной, что за ними я не видел трезвой и разумной жизни.
Если бы не было войн, нищеты, болезней и невежества, если бы вместо них мы бы создали вечный мир на земле, богатство, здоровье и просвещение, - в нашей жизни почти не оставалось бы места несчастьям и мукам.
* * *
Возвращаюсь к <тому> моменту, когда после трех недель в Тихом океане наш пароход подошел к пристани в Сан‑Франциско(91), где нас ожидал довольно неприятный сюрприз. Нам не позволили сойти с парохода вместе с остальными пассажирами, и только когда вся публика сошла на берег, один из паспортных чиновников с важным видом блюстителя нравственности подошел ко мне и спросил, жена ли мне Madeleine. Я ответил, что нет, но что она была моей секретаршей.
- Почему же вы сказали в Honolulu, что она ваша жена?
- Она неожиданно попросила меня сказать так, и я не хотел ей отказать.
- Вы живете с ней, как с женой? - продолжался расспрос.
- Нет. Она моя секретарша и только. Поэтому я взял для нас две отдельные каюты.
- Вы можете поклясться в том, что вы не имели с ней половых сношений?
- Я не клянусь никогда.
Еще раз нагло лгать мне было противно(92). Чиновник
замолчал и после долгого совещания с другими, проверив наши паспорта,
наконец,
выпустил нас на пристань.
В Сан‑Франциско я нашел двух близких мне людей: брата Илью и Паоло Трубецкого(93). Илья был товарищем моего детства, Трубецкой всегда интересовал меня, как скульптор и оригинальный, наивный человек. Он лепил в то время группу семьи богатейшего в городе сахарного короля(94) и зарабатывал большие деньги. Он был со своей шведкой‑женой Элен(95), которая, чем больше Паоло зарабатывал, тем больше тратила на туалеты и автомобили, флиртуя со всеми, обращавшими на нее внимание. Трубецкой этого не хотел знать и неизменно трогательно обожал ее.
В то время он сочинил фильм, в котором действующим лицом был юноша, прилетевший на Землю с другой планеты и влюбившийся в молодую земную девушку. Он рассказывал ей, как живут на его звезде, и удивлялся ужасным порядкам человечества. Там не было ни войн, ни законов, ни бедности, ни власти, ни страданий. Там все были вегетарианцы и любили друг друга. Жаль, что я не помню этого фильма. В нем очень талантливо сопоставлена наша действительность с идеалом.
Брат Илья читал в Сан‑Франциско лекции об отце(96), выступая, как номер, в театре "Водевиль"(97). Было странно видеть его на эстраде с картинками волшебного фонаря, изображавшими нашу семью и виды Ясной Поляны. Его выход был сейчас <же> после и<ли> до акробатов, шутников и шансонетных певцов и певиц. Но ему хорошо платили, а это было для него в то время главное. Ему во что бы то ни стало нужно было в те дни вернуться в Россию и вывезти оттуда свою будущую вторую жену Надежду Клементьевну(98). Вся цель его жизни была в этом.
Первые дни мы провели с Madeleine в отеле, но так как это было слишком дорого, я нанял отдельную меблированную квартиру со всеми удобствами и был счастлив, что, наконец, мог хоть на время обосноваться.
В этой квартирке<‑>бангало(99) были две комнаты, из которых одна ночью обращалась в спальню, <так как> громадная спальная кровать, вделанная в стену, вечером могла спускаться, а утром снова убираться из виду.
Замечательно, практично и просто была здесь устроена вся жизнь вообще и, в частности, вопросы питания. Дешевы были прекрасные фрукты: яблоки, груши, сливы и виноград, которыми был завален наш стол; в лавках вся еда продавалась уже готовая, так что нескольких минут было довольно, чтобы приготовить обед на газовой плите.
Сан-Франциско мне понравился с первых же дней, и я охотно поселился бы в нем, если бы не Madeleine, не знавшая английского языка и как будто скучавшая. Она неожиданно переменилась. В ней исчезли ее живость и веселость, и вместо них что‑то серьезное стало светиться в ее больших, красивых глазах.
В Сан-Франциско я был приглашен на завтрак в Клуб писателей, где меня попросили говорить. В тот период меня интересовал вопрос, каким же, наконец, способом мир избавится от революций, социальных смут и войны, и мне казалось, что только при признании всеми гражданами существующих в государстве и во всем мире законов священными, оно может жить в благоденствии и покое. Эта мысль была одной из главных основ веры младшего из восточных религиозных законодателей, Бааба(100), о котором я читал у графа Gоbineau(101). Конечно, при таком условии сами писаные законы должны были бы приближаться к совершенству и иметь основой нравственный закон, живущий в каждой человеческой душе. Но и при существующих законодательствах именно для того, чтобы они могли естественно совершенствоваться, повиновение им должно было бы быть повсюду сознательным и абсолютным(102).
На эту тему я говорил в Аuthor's Сlub(103), и калифорнийские писатели слушали внимательно. Брат Илья, чуждый моим идеям, но одаренный художественным инстинктом, как отец, тоже сказал несколько слов за этим завтраком о войне и привел картину поля битвы после сражения, когда санитары, поднимавшие трупы, были неожиданно испуганы поднявшейся стаей куропаток(104). Контраст жизни со смертью.
Умственная и духовная жизнь интеллигентного общества в Сан‑Франциско была интересна, и я был рад знакомиться с ней и в ней участвовать(105). Я начал уже задумывать серию лекций и, может быть, свой журнал, как внезапно мои планы разлетелись в прах и мы должны были покинуть Калифорнию. Madeleine получила письмо от матери, которая была серьезно больна. Старуха проглотила часть своей фальшивой челюсти и, судя по письму, была близка к концу.
- Я не могу больше оставаться здесь, - говорила мне Madeleine в слезах, - я должна вернуться домой, иначе я никогда больше не увижусь с матерью.
Решение ее было бесповоротно, а я не мог и не хотел оставлять ее.
- Хорошо, поедем в Нью-Йорк, а оттуда постараемся добраться до Франции.
Два дня спустя мы уже мчались на экспрессе через американский континент. От этой части моего путешествия осталось два ярких впечатления или воспоминания. Во‑первых, то неожиданное чувство бесконечного счастья, какое я беспричинно испытал ночью, подъезжая к Чикаго, когда я, еще раз продумав мою теорию быстрого движения на восток, понял или, если хотите, вообразил, что в этом движении люди найдут в будущем путь к бессмертию вследствие умноженного влияния на них света, идущего с востока, - электронов. Я радовался и гордился тем, что я первый на Земле открыл эту величайшую тайну(106).
Во-вторых, на этот раз очень неприятное воспоминание от Чикаго(107), когда в отеле города, где мы остановились на один день, двое немцев, вероятно, отец и сын, занимавшие комнату рядом с нашей, враждебно отнеслись к нам. Когда вечером мы вернулись домой и шли по коридору в нашу комнату, молодой немец, проходя мимо, подставил мне ногу. Я молча отстранился, и тем инцидент кончился.
Немцы были вполне правы. Что могло быть подлее того, как я жил? Миллионы умирали и страдали на войне, а я катался с любовницей по всему свету в чужие <края>.
В Нью-Йорке мы остановились в отеле Lafayette, хозяина которого я знал с первого визита моего в Америку. Это был француз-миллионер, владевший двумя отелями, который назначил теперь премию в 25.000 долларов тому, кто первый перелетит через Атлантический океан(108). Условия этой премии были вывешены тогда в передней отеля, и все с любопытством и недоверием читали их. Но не прошло с тех пор и нескольких недель, как Линдберг, которого считали помешанным, когда он дерзнул испытать счастье, сравнительно легко сделался во всем мире героем дня(109).
В Нью-Йорке, где мы пробыли дольше, чем предполагали(110), еще <одно> новое дело круто изменило наши планы. Madeleine оказалась беременной на третьем месяце, и в таком случае мне не оставалось другого выбора, как только жениться на ней, а для этого нужно было прежде развестись с женой. Как же и где все это оформить? Удобнее всего было вернуться в Россию, несмотря на большевизм, и там пройти через необходимые мытарства. Но как ехать в Россию? Невозможно через Европу, где шла война. Оставалось только вернуться в Японию и оттуда ехать в Москву снова через Сибирь.
Когда
я вспоминаю об этих днях, они кажутся мне каким‑то смутным сном, где я
был
только игрушкой событий, бросавших меня из страны в страну и
заставлявших
кружить кругом света(111).
Из града в град
Судьба людей, как вихрь, метет,
И рад ли ты или не рад,
Ей все равно.
Вперед, вперед! -
это четверостишие поэта князя Вяземского, которое я любил вспоминать(112).
Мы решили возвращаться в Японию через Канаду, а из Ванкувера плыть в Йокогаму.
Через Ниагару, где фотограф снял нас на фоне водопада, и через всю Канаду, на полях которой я узнавал русских баб‑духоборок, когда‑то при помощи моего отца покинувших Россию вследствие гонений на них правительства(113), мы приехали в Ванкувер, прелестный молодой город, развивавшийся тогда с необыкновенной быстротой. В нем тоже я бы остался навсегда. Зачем было уезжать отсюда? Так или иначе<,> мы смогли бы зарабатывать и здесь <на> нашу жизнь. Но Madeleine стремилась скорее оформить наше ложное положение, и я вполне сочувствовал ей.
В бурную погоду в тесной каюте II‑го класса небольшого английского парохода мы оставили Ванкувер и снова очутились на волнах Тихого океана. Этот переезд был опасным, так как немецкие "рейдеры" топили в этих водах английские корабли.
Вместе с нами из Ванкувера ехали еще какие‑то возбужденные и странные русские люди, которые, как я потом узнал, были русскими коммунистами, возвращавшимися из Соединенных Штатов в Россию. Их было около 400 человек. За время путешествия я познакомился с некоторыми из них и говорил с ними. Все они были озлобленными и несчастными русскими "интеллигентами", обнадеженными революцией. На пароходе они вели себя вызывающе, что немало беспокоило капитана. Когда им к обеду подали суп с плававшими в нем червяками, они подняли такой бунт, грозя бросить за борт всю команду, если им не улучшат питание, что с трудом удалось успокоить их.
Они были правы, так как наш капитан с утра до вечера дул виски и был хронически пьян. Надо было только удивляться, что такому чудовищу доверяли целый пароход.
Когда мы проходили мимо Алеутских островов (из‑за германских рейдеров мы делали большой обход), с утра поднялась холодная буря и нас стало сильно качать. Madeleine лежала весь день, а я ухаживал за ней. Но к вечеру ветер утих, и мы вышли на палубу. При заходившем за темные тучи солнце два кита, пуская фонтаны, плыли теперь рядом с пароходом, играя друг с другом. Они, очевидно, радовались встрече с нами. Несколько чаек летело над ними. Вечная жизнь, жизнь повсюду и несмотря ни на что. В хорошем настроении мы спустились в нашу каюту на ночлег. Мы легли и крепко заснули. Но внезапно среди ночи я был разбужен тревожным гудком и громкими криками матросов с палубы. Я вскочил и по лестнице выбежал наверх, чтобы узнать, в чем дело.
- Немецкий рейдер атакует нас! Все пассажиры на палубу!
Гудок продолжал гудеть, а матросы с двух сторон палубы торопливо спускали на воду спасательные лодки. Пассажиры в панике и со всех концов выбегали на палубу. В темноте дул холодный северный ветер.
Я вернулся в нашу каюту, сказал Madeleine, что надо было выходить на палубу и, захватив с собой все, что было с нами теплого, спокойно пошел наверх. Полное спокойствие было необходимо, чтобы успокоить испуганную до смерти и бледную Madeleine. Спасательные лодки были уже на воде, и первые пассажиры сидели в них. Суета кругом была невообразимая. Но неожиданно появилась в темноте фигура нашего пьяного капитана, который скомандовал:
- Опасность миновала! Все назад на свои места!
Я бросил в его сторону русское самое страшное ругательство, взял бледную Madeleine под руку и повел ее назад в каюту. Мы легли, но уже не могли спать всю эту несчастную ночь.
Madeleine внезапно почувствовала острую боль внизу живота. Скоро целый поток густой крови залил ее койку. В этом море крови я поднял на ладонь синий трупик уже сформировавшегося ребенка с большой головой, величиной с птичку, и показал его Madeleine. Потом я подошел к люку и выбросил его в море.
Пароходный доктор, которого я позвал с самого начала несчастья, был поражен количеством крови, которое теряла Madeleine, и не знал, как ее остановить. Он извел на нее всю вату пароходной аптеки. Утром изнуренная Madeleine забылась и лежала на спине, не шевелясь, как мертвая.
Еще одно острое горе ударило по моему сердцу. Ведь этот зародыш был бы человеком, моим и ее сыном. Может быть, большим и нужным миру человеком. Скольких усилий, надежд, переживаний, страстей стоило его зарождение. Но судьбе угодно было, чтобы он не жил. Может быть и даже наверное, все это было судом нравственного закона.
Глава
12
Мы едем через Индию во
Францию. Пароход "Роrthos" и
бунт кули. Шанхай,
Гонконг, Сингапур и Цейлон. Драгоценные камни в Коломбо. Моя больная
нога.
Madeleine отстраняется от меня. Индия. Калькутта. Агра. Джайпур.
Удайпур и
Бенарес. Бомбей. Коршуны и трупы. Индусский скульптор. Мадрас. Теософы.
Пенонг,
Сингапур и пароход "Australien". Переезд в Марсель
После случившегося с ней Madeleine была настолько слаба, что в Йокогаме четыре матроса вынесли ее на носилках. Мы остановились в Grand Hotel, красном здании на берегу моря, где мы были и раньше<,> и стали вновь обсуждать нашу жизнь, которая еще раз, особенно с психологической стороны, приняла новое освещение. Снова оба мы были свободными друг от друга, и вопрос нашего брака уже не был <таким> острым, требовавшим немедленного решения. Ехать в Россию было больше не нужно, но болезнь матери Madeleine продолжала тревожить ее. Теперь с еще большей силой она стремилась назад во Францию. К тому же деньги наши уходили, и надо было положить конец нашим скитаниям. Все же я решил по пути в Европу остановиться в Индии, которую я жаждал посетить уже давно<, > и теперь <хотел> воспользоваться представившимся случаем.
На этот раз мы взяли французский пароход "Porthos", один из лучших в то время, в 25.000 тонн, Общества Меssageries Маritimes(114), и так, в совершенно новых условиях<,> мы покинули милую Японию(115). Надо немного сблизиться с японцами, чтобы понять и почувствовать их душу. Они справедливы, доброжелательны и храбры. Они ценят дружбу, как нигде в мире. Они любят семью и детей, уважают старость. Если вы войдете к ним в доверие, они сделают для вас все, что могут. Если они почувствовали в вас врага, вы навсегда останетесь им для них.
Я полюбил Японию за эти ясные черты характера ее народа, и мне было жаль расставаться с ним.
На нашем пароходе ехали во Францию 2000 китайских "кýли"(116) на фронт, чтобы копать траншеи. Тысяча их помещалась на носовой части, другая <-> на задней. Сначала они были незаметны и тихи. Играли в кости и оживленно болтали. Не было и мысли, что они могли быть опасными. Я заметил только, как один из пассажиров, немец на вид, раздавал им папиросы и шутил с ними.
Но неожиданно все переменилось. По всему пароходу пронеслась весть, что китайцы взбунтовались и грозят гибелью команде парохода и пассажирам. Старший рыжий растерянный офицер пробежал мимо нас по палубе, держа в руках револьвер. Кочегары и машинисты в синих, почерневших от угля рабочих костюмах выбежали из трюма на верхнюю палубу, крича, как сумасшедшие: "Оù sont les fusils? Оù sont les fusils?"(117)
Винтовки оказались в углу гостиной, и рабочие вмиг расхватали их, следуя за старшим офицером, который стал на небольшой лесенке, отделявшей наши каюты от дико кричавших китайцев, и направил на них дуло револьвера. За ним построились с ружьями наперевес кочегары и машинисты.
Я бросился к Madeleine и повел ее за собой на верхнюю палубу, где спрятал под брезент одной из спасательных лодок.
Что же случилось? Оказалось, что на носовой части парохода во время обеда один из китайцев стал мочиться прямо в море, но ветер отнес его урину на рис других китайцев, которые так обиделись на это, что побили виноватого. Тогда другие китайцы вступились за него, находя это побоище несправедливым. Начался крик, гвалт, и завязалась такая общая свалка и драка между кýли<, придерживавшихся> разных мнений, что один из офицеров команды сам был сбит с ног. Тогда другой офицер выстрелил в толпу и убил одного китайца. Этого было довольно, чтобы и другая тысяча кýли, узнавшая об этом, дико взбесилась.
- Вот как! - вероятно, кричали они. - Вы везете нас на войну работать для вас и в то же время убиваете нас!
Я никогда не забуду того страшного часа, в продолжение которого мы ждали нападения на нас этой дикой массы страшных и чуждых людей. Наконец, благодаря хладнокровию и храбрости рыжего офицера, который неподвижно простоял на своем посту до тех пор, пока толпа не стала успокаиваться и снова принялась за игру в кости, <все стихло>. Я пошел наверх за Madeleine и свел ее вниз. На этот раз она была спокойна и весело смеялась.
Когда после этой истории мы пришли в Хонг‑Конг(118), на наш пароход была посажена рота французских пехотинцев с капитаном во главе, который потом купался и плавал в море на каждой остановке.
Я никогда раньше не видал китайской простонародной толпы и, надо признаться, был поражен ее дикостью. Много понадобится тысячелетий, чтобы эти желтолицые существа приблизились к образу человеческому, и я не удивляюсь теперь, что коммунизм имел у них такой успех. Где же мудрость Конфуция(119) и древних китайских мудрецов? Что же делали китайские правители все эти последние две тысячи лет для своего народа? Тот же вопрос можно задать и не им одним.
От Йокогамы до Коломбо наш пароход останавливался в Нагасаки, Шанхае, Хонг‑Конге, Сайгоне и Сингапуре. Везде мы выходили на берег и смотрели <на> жизнь этих кипевших жизнью городов и делали кой‑какие покупки. Впечатления были яркие, но не глубокие и, скорее, отрицательные. Самодовольные англичане, погонявшие палками чахоточных пус‑пусов(120) или "джин<‑>рикшей"(121) и в Сайгоне, и в Сингапуре; в Хонг‑Конге богатый китаец - торговец вышивками, одурманенный опиумом; в Шанхае благообразный банкир, пригласивший нас к себе вечером играть в рулетку, тогда процветавшую в этом городе, - все это радовало мало. По всему свету царили те же страсти, то же умопомрачение и та же дикость.
В Сайгоне, когда мы вышли с вокзала на площадь, куча крошечных ан<н>амитов(122) бросилась к нам со всех сторон, прося денег. Как стая обезьян, они прыгали вокруг нас и что‑то кричали. Тогда полицейский, такой же ан<н>амит, но повыше ростом, стал колотить их, как зверей. Это были люди<?> В Индии - буйволы, в Швеции - коровы и лошади в сто раз умнее этих двуногих. Какое возможно толстовское или оксфордское(123) "непротивление злу насилием" при наличности такого "человечества"?
Пора бросить такую ересь и похоронить на несколько тысяч лет, пока люди‑обезьяны и люди‑хищники не приблизятся к разумному и духовному облику человека. Но как можем мы требовать от полудиких китайцев и ан<н>амитов человечности, когда мы сами, "передовые" интеллигенты, постоянно, почти всю нашу жизнь обуреваемы дикими страстями?
Краткими штрихами опишу теперь наше пребывание в Индии.
После короткой остановки в Сингапуре - Цейлон, где мы сходим с парохода. Я хромаю, и нога у меня забинтована. В Желтом море меня укусила ядовитая муха, когда в жару я спал почти раздетый. Я хожу, опираясь на палку, и меня принимают за раненого англичанина.
В Коломбо мы отдыхаем и гуляем по городу, заходя в магазины. В одном из лучших ювелирных магазинов хозяин показывает нам свои драгоценности: громадные сапфиры, чудесные изумруды и рубины, "кошачьи глаза"(124) и серебряных слонов, покрытых бриллиантами и жемчугами. Я никогда раньше не воображал, что была такая роскошь в ювелирном деле на Востоке. Индийские магараджи(125) и купцы Индии владеют лучшими и крупнейшими в мире драгоценными камнями и жемчугами.
Мы сами увлеклись этим спортом, и в Коломбо я купил на последние деньги несколько пакетов сапфиров, топазов и жемчужин. Внутри страны мне попался первоклассный темный рубин, по цвету - настоящая "голубиная кровь"(126), который, вернувшись во Францию, я продал за десятую часть его цены. Но он позволил мне жить два‑три месяца.
Из Коломбо мы переправились на небольшом пароходе на индийский материк, откуда по железной дороге поехали на север, сначала в Калькутту, где стали осматривать достопримечательности города. Жара здесь была нестерпимая, так что днем нельзя было выходить. У каждой двери нашего отеля на полу сидели индусские boys, слуги занимавших комнаты проезжающих. В Индии у каждого иностранца должен быть свой слуга, который служит не только в отеле, но, главное, как проводник. Я тоже должен был взять себе такого, и я выбрал магометанина Магомета, к которому почувствовал доверие.
После Калькутты Агра с знаменитой гробницей Тадж‑Махал(127). Здесь мне пришлось расстаться с Магометом, который накурился опиумом и растратил часть моих денег. Я дал ему разменять пять английских фунтов(128) и заказал купить апельсин<ы>. Вернувшись в страшном состоянии, он, отворачиваясь от меня, выбросил на стол деньги и стал бормотать непонятные слова. Губы его были желто‑красного цвета от желтого перца, который едят, чтобы заглушить запах опиума.
Я сказал ему, что я больше держать его не буду и, дав денег, отправил обратно в Калькутту. На его место я взял старого благообразного индуса с седой бородой, в белом тюрбане. На другое утро Магомет явился ко мне в слезах, бросился на колени, но решение мое было окончательно.
Из Агры мы отправились в Джайпур, "розовый город", как называет его Pierre Loti(129), где мы провели несколько дней. Индия, с первых же дней моего пребывания в ней, совершенно неожиданно для меня напомнила мне Россию. Во‑первых, грачи и вороны, которых не видно было ни в Америке, ни в Японии, ни в Китае. Во‑вторых, народ; в‑третьих, старые города с зубчатыми стенами вокруг и воротами. Джайпур окружен такой стеной, напомнившей мне московский Кремль.
В этом городе многое было интересно и было несколько сильных впечатлений. У магараджи Джайпура(130) было более 500 жен и около 3000 детей. Так, во всяком случае, рассказывали. Это был черноволосый детина лет сорока с черной бородкой и толстым животом. В известный праздник(131) он выезжал со своими министрами за город, где в развалинах старого храма убивал священного козла. Надо было сделать это одним ударом меча и вся компания упражнялась в этом искусстве. Если кому это не удавалось, другие поднимали его на смех. Нас возили на это место, где на камнях видны <были> кровяные пятна.
Все же этот магараджа был гостеприимен. Он дал нам коляску и пару лошадей и своего проводника с круглым медным шлемом на груди. Этот шлем был знаком того, что экипаж принадлежал магарадже.
Возвращаясь в наш отель из одной из наших экскурсий, мы были застигнуты на пути страшной бурей. Дождь полил такой, что шоссе скоро стало бурной рекой и вода стала заливать ступеньки коляски, хотя они были непомерно высоки. Гром гремел, не переставая, и молнии мелькали одна за другой, бороздя весь воздух. Наконец, мы доехали до отеля, и лошади круто остановились перед его подъездом. Мы спрыгнули с коляски и бегом бросились к дверям, но в эти секунды молния ударила в наш экипаж, сбила одну лошадь на землю и обожгла руку нашего проводника. Мы же оба повалились на ступеньки подъезда, не получив никаких повреждений.
Джайпур - промышленный центр. Здесь выделываются замечательные ковры, прекрасные бронзовые вещи и идет бойкая торговля красивейшими в мире желтыми и белыми топазами. Мы посещали магазины и кое‑что покупали.
Однажды, проезжая через город, мы были поражены необыкновенным движением, происходившим на площади. Народ появлялся отовсюду и множество мальчиков-подростков с криками бежали за странной, красивой и худой фигурой молодого факира(132)-дервиша(133), который, с завязанными черным платком глазами, кружась, как волчок, с необыкновенной быстротой устремлялся куда‑то вперед через площадь.
Я узнал потом, что это был очень редкий в Индии и глубоко чтимый народом вертящийся дервиш, который лежит всю жизнь, потом неожиданно вскакивает и пускается в свой фантастический танец. Он, наконец, выбивается из сил и полумертвый падает на землю. Тогда мальчишки, поспевавшие за ним, кладут около него деньги и пищу, которыми он живет.
Когда на другое утро я посетил английского регента, который, вследствие жары днем, принимал в 7 часов утра, он сказал мне, что я был счастлив увидать этого редчайшего факира. Регент был в Джайпуре 30 лет(134), но ни разу ему не удалось встретить его.
В Джайпуре Madeleine была нервна и неприятна. После ее выкидыша она перестала жить со мной половой жизнью, боясь снова забеременеть, что и на меня влияло очень дурно во всех отношениях. Она, очевидно, решила окончательно порвать со мной, так как теперь снова для нее открылась впереди свободная дорога той полуавантюристки, которой, в сущности, она была. Я был таким же бедняком, как и она. Революция отняла у меня последнее. Во Франции Madeleine еще может встретить богатого человека, американца или француза, с которым <она> устроила бы свою жизнь.
Так думалось мне теперь с грустью и разочарованием, но я принял новую ситуацию спокойно, так как и в ней было хорошо уже то, что я мог не разводиться с женой.
После Джайпура я решил увидеть дикую, еще более театральную Индию, - Удайпур, с его старым магараджей, который тогда был старейшим из всех индусских князей и, <как> говорили, был развитым и милым человеком(135).
Поздно вечером мы приехали в этот тихий город, где пара жирных гнедых лошадей и прекрасная коляска ожидали нас. От самой станции и почти до Guest house(136) - большого дома, стоявшего на горе над озером, <-> застоявшиеся лошади подхватили<сь?> и несли под гору и на гору, так что кучер едва держался на козлах.
Удайпур и его окрестности с первых же впечатлений поражают дикостью и богатством своей природы. Густая разнообразная растительность в непроходимых кругом лесах, множество всякого рода птиц, зверей, бабочек и насекомых. Весь воздух гудит их жизнью, и кажется, ты попал в центр и источник животного мира, откуда произошли все земные существа.
В Guest house нас встречает его директор и, указав нам наши комнаты, приглашает к обеду, накрытому в столовой. После четырех блюд, вин и шампанского мы поднимаемся наверх и выходим на балкон, где уже расположился наш новый слуга. Полная луна поднималась над озером, и стая громадных белых птиц летела над водой. В кустах за оградой дома шарахались кабаны, на ограде сидели красавцы павлины. Масса насекомых гудела в воздухе, а вдали лаяли шакалы. Мы долго стояли неподвижно, очарованные этой истинно сказочной ночью, и какое‑то новое, никогда еще не испытанное чувство восхищения и удивления перед этой клокотавшей и переполненной жизнью первобытной природой охватило нас.
Было поздно. Два сторожа бродили вокруг дома. Наш слуга уже спал в углу балкона. Пора была ложиться и нам, и усталая Madeleine первая забралась под кисею своей громадной кровати, стоявшей у двери. Скоро и я последовал ее примеру, хотя охотно просидел бы всю ночь, любуясь красотами.
Моя комната сообщалась с другими, и я заметил в ее глубине две закрытые двери. Во всем Guest house были мы одни, так как никаких других путешественников в Индии в то время не было.
Я, наконец, лег и сейчас же заснул, но среди ночи я в испуге проснулся от сильного удара, данного мне в грудь чьей‑то энергичной рукой. Я вскочил на колени, озираясь кругом. Перед дверью против меня стояла красивая женская фигура, вся задрапированная в белом. Она держала одной рукой край своей одежды над лицом и только два глаза, блестя, упорно смотрели на меня.
- Зачем ты пришла? - крикнул я ей по‑русски. - Я не звал тебя!
Она постояла, не шевелясь, несколько секунд, потом повернулась и неслышно исчезла. Я был испуган. Что такое было это привидение? В ту минуту я не мог даже подозревать, что эта женщина была живой индуской, посланной мне любезным директором Guest house. Я выскочил из кровати и вышел на балкон. Madeleine тоже проснулась, и я рассказал ей о случившемся.
- Oh, оh, - прошептала она испуганно, - я тоже слышала шарканье ее туфель, но я не хочу больше спать в комнате. Давай вынесем наши кровати на балкон.
Мы разбудили слугу и с его помощью устроились на балконе.
Мы пробыли в Удайпуре трое суток, и каждую ночь женщина в белом ходила по комнатам, шаркая туфлями. Во всяком случае, Madeleine воображала, что слышала ее. Я же скорее думал и думаю сейчас, что если эта женщина не была простой живой индуской, то она приснилась мне в форме кошмара после шампанского и позднего ужина под душным кисейным балдахином. Замечательно еще в этом событии то, что <в> ту самую ночь, когда оно случилось, умерла в России моя бывшая почти невеста, Вера Северцова(137).
На следующий день я поехал с визитом к старому магарадже. Он принял меня крайне любезно в обществе молодого красивого индуса-переводчика, так как сам не говорил по‑английски. Он спросил меня, что я думал о войне, и спросил еще, что бы сказал о ней мой отец. Я выразил ему мое восхищение перед его городом и природой страны. Когда я уезжал, он прислал мне в подарок несколько шкур пантер и тигров с собственной охоты. Всюду в окружных лесах были выстроены вышки, с которых он стрелял, а в городе продавались открытки и картинки с изображением магараджи на спине слона, на которого набросился тигр.
Подъезжая к дворцу, я был поражен множеством нарядных женщин с детьми с браслетами на руках выше локтей, которые вереницей кинулись к дворцу. Мне сказали, что в известные дни магараджа раздавал им медные монеты. В другой раз мы были удивлены плачем и причитаниями народной толпы, которая встретила за городом партию каторжан в кандалах, которую гнали на работу.
Сострадание. Сострадание, искреннее и глубокое, было основной чертой индусского народа, - не только к людям, но и к животным, ко всему живому. Замечательно было также, что и животные Индии, как я не раз заметил, были сознательнее и чувствительнее, чем в других странах. Однажды мальчик, сидевший на буйволе, свалился с него, когда неожиданно верховой промчался мимо. Буйвол был испуган и отстранился. Надо было видеть, как он вдруг круто остановился и повернул голову в сторону упавшего мальчика, чтобы посмотреть, не слишком ли он ушибся. В Удайпуре есть место на окраине леса, где кормят кабанов. Мальчик лет десяти выходит на это лужок и разбрасывает маис. Тогда со всех сторон из леса выбегают кабаны всех возрастов и величин, окружают мальчика, но ни один не трогает его. Никогда не случается также, чтобы тигры набрасывались на факиров, проводящих в лесах всю свою жизнь.
Магараджа принял меня в малом дворце, но у него еще несколько больших, отделанных мрамором и золотом. В самом большом <дворце> живет его первая, главная жена, а третий выстроен на озере, куда мы ездили на катере. Кругом большого дворца выстроены громадные конюшни для лошадей и слонов.
Мы спускались также к озеру перед нашим Guest house. Оно кишело крокодилами, которые массами приплыли к мелкому берегу, когда мы подошли. Кругом озера на деревьях целыми семьями и обществами качались и прыгали желтые обезьяны.
В Удайпуре мы видели также народную праздничную процессию, что‑то вроде русского крестного хода, в котором участвовали слоны, факиры, музыканты и толпа народа. Но чтобы описывать все эти короткие красочные впечатления, нужно было бы оставаться здесь гораздо дольше, и потому я перехожу к следующему этапу нашего путешествия - святому городу Бенаресу на берегах священного Ганга, который больше других интересовал меня.
Здесь поразила меня толпа молящихся при восходе солнца. По колена в воде, обращенная к солнцу, она молилась своим богам. На берегу реки сидел уже двадцать лет неподвижно в своей деревянной крошечной избушке знаменитый факир со своим учеником, библейского вида красавцем-юношей лет двенадцати. Такие факиры - древняя традиция священного города. Одному из них, просидевшему так тридцать пять лет, в городе выстроена роскошная часовня с золотым куполом. Но, когда поздно вечером я снова сошел вниз к реке, я был разочарован, узнав святого факира, разгуливавшего по берегу. Еще раз я убедился в том, что факиры - лишь профессия, выгодная, когда в стране много туристов. Но и сам простодушный народ чтит их и щедро поддерживает их существованье.
Река Ганг когда‑то была гораздо мельче. В прозрачной воде подле берегов видны развалины прежних дворцов и домов, теперь совершенно покрытых водой.
Индусская интеллигенция Бенареса, узнав о моем приезде, пригласила меня на их собрание и просила говорить. Когда я вошел в просторную комнату, где они собрались, меня попросили снять башмаки, потом усадили на подушки на ковер. На этом громадном ковре на полу, скрестив ноги, расположилась одетая в белое аудитория, - только мужчины. Они ожидали, вероятно, других идей от сына Толстого. Но я сказал им то же, что в Сан‑Франциско, - что, по моему мнению, война и зло мира исчезнут, когда людские законы станут совершенными и когда все граждане земли будут слепо повиноваться им. Эта идея тогда была центром моих мыслей.
В Бенаресе удивил меня обычай сжигать трупы мертвецов. Вечерами можно было видеть костры, горевшие по темным берегам реки, на которых тлели мертвецы медленным огнем. Так как у бедняков не было достаточно дров, то многие трупы не сгорали дотла, и тогда собаки растаскивали и пожирали их ноги или руки, а то и целое туловище.
Жара в городе стояла убийственная днем и ночью. Нельзя было спать без вееров, устроенных над кроватями и медленно качавшихся всю ночь двумя сторожами снаружи, с балкона. Но, как только они задремывали и переставали тянуть веревки, веера останавливались, и тогда духота чувствовалась еще сильнее. Надо было крикнуть сторожам, чтобы они продолжали свое дело.
После Бенареса мы поехали в Бомбей, откуда должны были взять пароход во Францию. Но рейсы отсюда в Европу были прекращены(138), и мы снова очутились в неприятном и тревожном положении. Что же было делать? Оставаться в Бомбее и зарабатывать на жизнь скульптурой?
Одно время я серьезно думал об этом, так как молодой индус-скульптор, с которым я познакомился, страстно желал этого. Когда я посетил его мастерскую, он засветил лампадку перед каким‑то своим богом и молился перед ней о том, чтобы я оставался в Бомбее и стал бы работать вместе с ним. Бюсты этого скульптора дышали жизнью(139). Между ними были Блаватская(140), Тагор(141) и Ганди(142), но с материальной стороны они не приносили ему ничего. Если бы я остался работать с ним, конечно, я стал бы голодать вместе с ним.
В Бомбее мы поднимались на башню смерти, куда носят покойников гнить на открытом воздухе. Мы видели толпу молящихся персов на берегу моря, мы посетили поздно вечером городской парк, где англичане пили виски и <где> играла музыка.
Неожиданно пришло, наконец, разрешение наших затруднений, хотя и очень сложное. Оказалось, что, хотя прямых рейсов прямо из Бомбея во Францию больше не было, была возможность в Сингапуре поймать по пути из Японии французский пароход "Аustralien"(143), шедший оттуда прямо в Марсель. А для того, чтобы это удалось, надо было немедленно возвращаться в Сингапур через Индию и Бирму.
Деньги мои подходили к концу, но и на это путешествие их хватало, и вот через магометанские провинции Секундерабат и Хайдерабат мы едем в Мадрас, откуда пароход должен был доставить нас в Пенонг(144).
Главная квартира и центр мировой теософии(145) в Мадрасе, их прекрасные здания и библиотека произвели на меня слабое впечатление, хотя я когда‑то сам увлекался этой "религией", которая, в сущности, ни религия, ни философия потому, что в ней нет достаточной глубины. Теософию поэтому можно лишь назвать духовной наукой, известной формой богословия, далекой от живой жизни.
Наш переезд из Мадраса в Пенонг был очень неприятен тем, что с нами ехала партия пьяных и нахальных английских и австралийских офицер<ов>, которые вели себя, как истинные бандиты. Они приставали к Madeleine, а ночью украли ее нижнее белье, так как спали мы на палубе за недостатком кают.
Из Пенонга в Сингапур мы взяли поезд, и здесь я еще раз убедился в дикости англичан. Они погоняли и били несчастных джин<‑>рикшей, везших их на своих колясочках со станции в отель, как собак, и продолжали нахально относится к нам.
Я был рад попасть, наконец, на "Аustralien", и, хотя путешествие это было опасным (мы были нагружены взрывчатыми материалами, а в Средиземном море в то время немецкие подводные лодки ежедневно топили пароходы), - оно было последним этапом наших скитаний. Мы возвращались на европейский материк, в цивилизованную Францию, где можно было снова жить по‑человечески. Особенно радовалась Madeleine, которая ожила после периода долгого подавленного расположения духа.
Этот переезд был удачным. За нами, как говорили, гонялись 28 подводных лодок. Мы проходили мимо уже потопленных судов, мачты которых торчали над водой. Но в самом опасном месте, когда пассажиры<,> и я в том числе<,> были поставлены на верхней палубе следить за возможным нападением на нас, поднялась сильнейшая буря, и, хотя два раза подводные лодки показывались, они не могли из‑за бушевавших волн направить на нас свои торпеды. Наш пароход потом пошел зигзагами, спускаясь на юг до африканских берегов и снова поднимаясь на север.
Когда, наконец, мы увидали маяк Марселя, камень упал с наших сердец, и счастливое чувство, что снова мы возвращались к более спокойной жизни, охватило нас. Одна из самих красочных страниц моей жизни заканчивалась, как беспокойный, хотя и интересный сон, от которого все же было жалко просыпаться.
В Марселе мы расстались с Madeleine. Она уезжала к родителям в Daufiné, я же решил ехать в Ниццу, где, мне казалось, я мог кое‑как зарабатывать <на> мою жизнь писаньем, скульптурой и игрой. Я не забыл последнего взгляда Madeleine, когда поезд ее отходил со станции. Ее красивые орлиные глаза были полны смущения, и сожаления, и вопроса:
- Итак, все кончилось между нами? - спрашивали они. - Ну, что ж? С'еst lа viе!(146) Так, вероятно, нужно было.
Мне была тяжела эта разлука, хотя, как всегда и во всем, я отнесся к ней философски, не желая делать из нее страданье. К тому же, за последние месяцы я охладел к моей спутнице, как и она, вероятно, охладела ко мне. При прощании я разделил между ней и мной мои драгоценные камни и последние золотые английские монеты, еще остававшиеся в кармане. Проза жизни сильнее идиллий.
Глава
13
Мне кажется сегодня, что не стоит вообще никому писать своих воспоминаний, и на этой 13<‑й> несчастной главе моей<,> скорее несчастной, чем счастливой<,> жизни я, может быть, навсегда оставлю это писание. После путешествия с Madeleine и разрыва с ней продолжался бурный период моей жизни еще много лет. Выброшенный из России войной и революцией, я бился, как рыба об лед, одинокий, без родины, состояния и семьи, и, странно сказать, до сегодняшнего дня 9 апреля 1943 года продолжается то же самое. Несмотря на то, что я в нейтральной Швеции, где могу проживать у сыновей, я еще больше одинок и беден, чем я был во Франции или Америке, и мои страдания еще острее, чем они были когда‑либо.
Итак, после разрыва с Madeleine началась новая полоса беспутной жизни в Ницце и Париже, <наступили> годы жестокой борьбы, исканий и страстей, которым я не мог положить конец. Женщины и игра, игра и женщины, иногда много вина, а работа только тогда, когда она оплачивалась, хотя бы мизерно. Я писал в ниццкой газете, лепил, когда были заказы. Доставал денег у богатых людей или французского правительства, но жил главным образом игрой потому, что не раз, а очень много раз выигрывал крупные суммы, что давало возможность сызнова одеться прилично, заплатить долги и временно отдыхать от напряженной <борь>бы и унизител<ьной нищеты>(147).
Вспом<инаются> лишние усилия, а не дали, не счастье, не радости.
Вот одна русская женщина, потом другая, вот француженка, потом бел<ь>гийка в Париже. Потом еще русская и итальянка в Ницце, за ними две американки в Париже и, наконец, моя встреча с Жизель, и фейерверк, и кошмар вспыхнувшей вновь самой сильной моей любви, за которой пришли страшные разочарования, страдания и разрыв. Я отчасти описал это время в романе "Вернись"(148).
За эти годы были еще две поездки в Америку, новые отрицательные впечатления от нее, потом опять Париж с безумной игрой и, наконец, возвращение в Швецию.
Здесь чуждые мне взрослые, не тонкие(149) дети, кроме Никиты (150), некоторые хорошие внуки, общая холодность шведов и их материализм. Наконец, на днях страшная карамазовщина со старшим сыном Палей(151), который набросился на меня вне себя от ярости, готовый меня убить(152). Это во второй раз с тех пор, как я здесь, и без всякого повода с моей стороны. После его первого хамства я готов был убить его<,> как собаку; на этот раз я уехал от него с решением никогда больше не видеть и не знать его. Это жалкий мерзавец и лгун, обворовавший своих младших братьев и сестер, которого Нравственный Закон должен наказать жестоко<…>(153).
Заключение
Опыт целой жизни открывает глаза человеку, и он ясно видит изъяны - зло и ложь человеческого мира, если человек этот сам свободен от тщеславия, гордости, глупости и страстей.
Мне видно все, как на ладони, и вот самое важное из того, что я вижу в современном, так называемом цивилизованном мире.
1. Мы до сих пор не поняли до конца, не уяснили и не оформили главнейшей духовной и умственной единой основы и сущности, на какую должна опираться и какой должна руководствоваться жизнь как всякого индивида, так и всякого общества, народа и всего человечества. Мы до сих пор не приняли ее, до сих пор не знаем ее, и она заменена у нас бесчисленным количеством дребедени и лжи разного сорта, - религиями, идеологиями, теориями, наукой, искусством, литературой, политикой, музыкой, техникой и т.д., - тогда как она должна быть главной, ясной, краткой и простой, вездесущей и живительной, как солнечный день. Она должна прежде всего остального быть милой и дорогой всякому. Она должна была бы с утра и до вечера постоянно быть тем воздухом, которым все бы дышали. Что же такое эта сущность? Как выразить ее?
Это для меня и для всех - сейчас и сегодня, с вечера и до утра и с утра и до вечера, - это радость и наслаждение бытием, где бы я ни был, с кем бы я ни был, что бы ни случилось со мной. Это радость, наслаждение, но не в том только, чтобы сладко есть и пить, не в чувственных излишествах, не в эгоистических стремлениях и делах, а в добрых отношениях со всеми людьми, в служении и помощи им, насколько можно, в воздержании от всего ложного, лишнего, вредного и злого, - в молчании, в терпении, в труде и мужестве, в великодушии и смирении, в самоуважении и разуме, в ненависти ко всему ложному и в борьбе с ним.
Вот духовная основа жизни, которую надо сделать всеобщей, как небо, и какой в жизни нет.
2. Жизнь человечества наполнена ложью и глупостью, перед которыми люди преклоняются и которые они культивируют и постоянно и повсеместно преумножают.
Надо начать с решительного уничтожения всего этого смрада.
3. Люди духовно слабы. Их надо лечить и укреплять. Чем? Верой, истинными знаниями, законом и превыше всего двойным насилием - духа и материи.
4. Нужно создать многомиллионное международное моральное общество единой веры, которое покроет и победит весь мир.
5. В чем эта единая вера? Не думать и не делать ничего, не спросившись совести и разума, то есть морального закона в нас самих.
Комментарии к этому тексту здесь
Разлука с Madeleine.
Ее взгляд. Париж и женщины. Признание друга. Его сифилис. Ницца. Жизнь
на
Ривьере. Игра. Монте-Карло. Мишка Молоствов(2). Марина. Марианна(3). Ферзен(4).
Башкирцев(5). Кукина(6). Строганов(7).
Моя хозяйка, - братья Гужон(8). Еду в Россию за ожерельем.
Париж и рейды. Ночные
тревоги. Берта(9). Лондон и
опять женщины. Grand Palace Hotel и послед<ний> рейд
<19>18 года.
Норвегия и Швеция. Моя жена и дети(10).
Стокгольм и Петербург
Большевики убивают и
арестуют. Княгиня и ее бюст. Смольный. Весточка(11). Занятие
Строг<ановского> дворца матросами(12). Игра в покер с бар<оном> Корфом(13). Мать и Ясная(14).
Офицеры-измайловцы(15). Отъезд с
последним парох<одом> в Стокгольм(16). Опять Швеция. Конвой в New Castle. Лондон, Париж и
Ницца
Марианна. Работа в
Сinema(17).
Беременность М<aрианны>. Мученье.
Рожден<ие> Вани(18).
Игра. Анкета. Развод с женой(19).
Пупоньерки. Отчаяние. Висбаден. Я кассир
за 300 марок в месяц(20). Кочубей(21) и француз. Париж. Rue dе Rеnnes(22). Мои страдания
Окон<чательный>
разрыв с
Мариан<н>ой(23). Осман(24)
Я пишу Gisèlе(25). Встреча с ней.
Близость без
счастья. Port Cros(26). Развод с
Мар<ианной>(27).
Страдания. Все "trop Tard" 28) для счастья
Годы и дети. Я один.
Париж. White, Dunn<у>,
Gоаdу.
Принцесса(29) и сыновья. Игра. Dunny.
Мертвецы(30). Lons
le Saunier(31). Америка 3 раза(32). Возвращ<ение> в Швецию(33). Дети и внуки(34).
Муссолини(35). Италия(36). Таня(37).
Швеция(38). Шведская жизнь.
Конец бурной жизни. Житие без страстей. Смерть матери и жены(39). Холод жизни. Моя философия. Мир(40)
Чему научил меня опыт моей жизни? Во-1-х, не строить себе иллюзий; во-2-х, молчать и служить так или иначе людям; в-3-их, не сердиться, не ненавидеть, не искать, не лениться, не бояться, не объедаться, не требовать, не раскаиваться, не молиться, не ждать, не наслаждаться вредным, наслаждаться вечным и полезным, любить любящих, любить добрых и ненавидеть злых, недобрых и не любящих и отстраняться от них. Искать общества умных и разумных и убегать от дураков.
Комментарии к Приложению здесь
жизни и
творчества Льва Львовича Толстого
20 мая 1869 года
В Ясной Поляне родился Л.Л.
Толстой
2-4 мая 1880 года
Знакомство с И.С. Тургеневым во
время его пребывания в Ясной Поляне
Сентябрь 1881 года
Переезд с семьей в Москву и
поступление в
мужскую частную гимназию Л.И. Поливанова
Сентябрь 1882 года
Болезнь и возвращение в Ясную
Поляну
Сентябрь 1883 года
Восстановление в гимназии Л.И. Поливанова в Москве
Середина августа 1885 года
Дружба с Н.Н. Ге-младшим,
переехавшим с дочерью в Москву и взявшим на
себя часть забот по изданию сочинений Л.Н. Толстого
Конец ноября 1885 года
Общение с В.Г. Чертковым, приехавшим к Л.Н. Толстому в Москву, на многие годы переросшее в
дружескую привязанность
Январь-февраль 1886 года
Дружба с художником Н.Н. Ге, писавшим в доме Толстых в Москве
портреты С.А. Толстой и
Т.А. Кузминской, продолжавшаяся до
последних дней его жизни
Июль 1886 года
Общение с Н.Н. Страховым
во время его
пребывания в Ясной Поляне
20 апреля 1887 года
Знакомство с
Н.С. Лесковым, в первый раз
приехавшим к Л.Н. Толстому в Москву
Май 1889 года
Окончание гимназии
Сентябрь 1889 года
Поступление на медицинский
факультет
Московского университета
Лето 1890 года
Путешествие из Нижнего Новгорода
по Волге до
Казани, оттуда вверх до Уфы, потом на Урал, оттуда на Кавказ и в Крым
Сентябрь 1890 года
Переход на филологический
факультет
Московского университета
Март 1891 года
Начало литературной деятельности:
публикация
рассказа "Любовь" в журнале "Книжки "Недели"" под псевдонимом Л. Львов
Апрель 1891 года
Публикация под псевдонимом Л. Львов рассказа "Монте-Кристо" в
журнале "Родник", замеченного
читателями. Позднее он не раз перепечатывался в сборниках рассказов,
выходивших
под настоящим именем автора
29 июня 1891 года
По приезде в Ясную Поляну
И.Е. Репин
рисует Л.Л. Толстого и других членов семьи.
Взаимная симпатия с годами
перерастает в
искреннюю привязанность и дружбу, растянувшуюся на всю жизнь
Начало июля 1891 года
Лечение кумысом в Самарской
губернии. Первое
столкновение с неурожаем и размышление о том, что будет с голодающими
крестьянами
28-29 июля 1891 года
Неудавшаяся попытка встретиться с
Наследником
Цесаревичем в селе Гаршино Бузулукского уезда Самарской губернии
Конец июля -
август 1891 года
Путешествие в Астрахань - Баку -
Тифлис -
Владикавказ - Пятигорск - Кисловодск - Новороссийск - Ялту - Одессу.
Встреча с
А.Г. Рубинштейном
Конец августа - начало сентября 1891 года
Возвращение в Ясную Поляну и
отъезд в
Москву для продолжения учебы
Середина октября 1891 года
Решение отправиться пешком по
местам голода
23-25 октября 1891 года
Оформление отпуска в университете
и отъезд из
Ясной Поляны в село Патровка Самарской губернии для работы на голоде
27 февраля, 15 мая, 9 ноября 1892
года
Публикация в "Русских ведомостях"
отчетов о
работе на голоде в рубрике "Среди нуждающихся"
Май 1892 года
Столкновение с земским начальником
по поводу
открытия столовых для голодающих без разрешения властей
30 июня 1892 года
Завершение работы на голоде и
отъезд из Патровки в Ясную Поляну
12 октября 1892 года
Выход из Московского университета
25 октября 1892 года
Отъезд из Москвы на воинскую
службу в Царское Село
Конец декабря 1892 года
Окончание военной службы по
болезни.
Неожиданное возвращение домой под Новый год
Середина января 1893 года
Поездка в Петербург. Знакомство с
А.Н. Альмедингеном
и членами его семьи, переросшее в многолетнюю дружбу.
Беседа с Н.С. Лесковым,
поддержавшим
молодого человека в его литературных занятиях.
Знакомство с А.П. Чеховым
и обсуждение с
ним совместной поездки в Америку
Февраль -
март
1893 года
Попытка продолжить работу на
голоде в
Тульской губернии. Начало длительной болезни тяжелой формой неврастении
Июнь 1893 года
Лечение кумысом в Самарской
губернии
Июль - октябрь
1893 года
Лечение в Москве
20 октября 1893 года
Профессор Г.А. Захарьин
настоятельно
рекомендовал продолжить лечение заграницей
Декабрь 1893 года
В журнале "Северный вестник"
напечатан
рассказ "Синяя тетрадь" под
настоящим
именем автора
13 декабря 1893 года
Отъезд в Канны на лечение
Январь 1894 года
Переезд в Париж для продолжения
лечения у
П.К. Потена и Э. Бриссо
Февраль 1894 года
Знакомство в Париже с
Э. Золя и Э. Вогюэ.
В журнале "Северный вестник"
напечатан
рассказ "Совершеннолетие", замеченный
читателями
18 марта 1894 года
Возвращение в Москву в
сопровождении старшей
сестры Т.Л. Толстой
Май 1894 года
В журнале "Северный вестник"
напечатан очерк
об Армии спасения под названием "Письмо
из Парижа (У салютистов)", замеченный читателями
Июль 1894 года
В журнале "Северный вестник"
напечатан рассказ "В Татьянин день"
Лето -
осень 1894 года
Ухудшение состояния здоровья,
мысли о смерти.
Редкие попытки продолжать литературные занятия
13 ноября 1894 года
Л.Н. Толстой беседует с
доктором Н.А. Белоголовым о состоянии
здоровья сына
Начало декабря 1894 года
Консультации невропатологов
А.Я. Кожевникова и В.К. Рота
Январь 1895 года
Лечение электричеством по совету
врачей
Середина февраля 1895 года
Отъезд из Москвы в лечебницу для
нервных
больных доктора М.П. Ограновича близ Звенигорода
24 февраля 1895 года
Известие о смерти младшего брата
Ванечки
Конец апреля 1895 года
Отъезд для лечения в Гангё
(Финляндия)
14 сентября 1895 года
Переезд в Швецию к доктору Эрнсту
Теодору Вестерлунду
Осень 1895 года
В Берлине в переводе Алексея
Маркова вышла книга
рассказов под названием "Die
Versuchung"
Декабрь 1895 года
Знакомство с Доротеей Вестерлунд
Конец февраля 1896 года
Помолвка с Доротеей Вестерлунд
15/27 мая 1896 года
Свадьба Доротеи Вестерлунд и
Л.Л. Толстого в Стокгольме
Лето 1896 года
Свадебное путешествие в Норвегию и
на север Швеции
1 сентября 1896 года
Приезд с женой в Ясную Поляну
Осень - зима 1896 года
Устройство своего гнезда во
флигеле
яснополянского дома. Занятия литературным трудом
Январь 1897 года
В журнале "Родник" напечатан рассказ "Яшка", который неоднократно перепечатывался и был издан отдельно