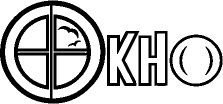Райнер Мария Рильке
Часть 1
Andante
1.
Дом проглатывает человека. Поиграет-поиграет – и проглотит. И тогда человек затихает и смотрит в окна, и окна мутнеют, а пейзаж становится плохо загрунтованным холстом. Холст этот можно прорвать, а можно и пойматься в его паутину.
Н. сумел прорвать холст и не попасться. Но если ты не паук, паутин на тебя много. Скоро он даст проглотить себя другому дому – большому, деревянному, одиноко стоящему на берегу реки. Н. плыл неспешным корабликом по проселку, в одной руке саквояж, в другой сумка с купленными по дороге продуктами; лес постепенно вбирал его, вобрал, затем выпустил – на поляну, потом на другую поляну; орешник, сосны, потом вдруг осины и березы, опять сосны. Веяло рекой – она была царицей здешних мест, к ней летели на поклон птицы и кланялись – иначе не напьешься воды.
Дом был ее дворцом, он был посвящен реке, жил для нее, и стрекозы-коромысла пели для нее, сидя на коньке крыши. И шел Никто с коромыслом, и нес к реке мертвую воду, а черпал из нее живую, и водой этой жил без пищи, и не становился Кем-то, потом что стыдно, потому что не нужно, потому что уже был.
На террасе стояло пустое ведро – или ему казалось, что оно там стоит? А может быть, ему казалось, что он сам стоит на террасе? Кому что кажется, каждый – художник своего воображения. Сейчас рисовался такой пейзаж: терраса, нанизанная на дерево. Ясенедуб, как Н. сразу стал его называть, потому что никак не мог вспомнить, ясень это или дуб. А когда не помнишь, как нужно что-то называть, называешь так, как хочется тебе, или как не хочется другим. Н. и поступал чаще всего не так, как поступают другие. Жизнь свою он называл нежно – нежизнью, себя он про себя называл Никто, а поскольку человеку нужна фамилия, он решил писаться Откин. В плане приватности и вообще... Интересно, догадается ли кто-нибудь прочитать эту фамилию в обратном порядке – Никто?
Собственно, настоящий Никто должен жить нигде. Наверное, он не был настоящим Никто, потому что это почти титул и его еще надо заслужить. А он что же? Годами жил в городе, жил и жил, и только сейчас уехал. Город, правда, продолжал жить в нем. Он мешал городу жить в себе, но безуспешно. Пришлось взойти с городом внутри себя на ступеньки, сесть – с ним же – на лавку, говорить с хозяином, постукивая в глубине своего нутра крышами друг об друга.
Хозяин, давно проглоченный домом, смотрел мутно. Он вспоминал свою жену, которую унесла река желтой волною, - говорили, в город, говорили, в новый брак, но кто знает, куда? – а у желтой волны ведь не спросишь. Жена жила в его глазах, и посетитель с интересом наблюдал за тем, как она выбивает половик, моет окна, готовит обед. Наконец хозяин закрыл глаза со спрятанной в них женой и назвал цену. Цена заняла всю террасу. Вслед за ней пришла тишина.
Н. понял, что это как подавать милостыню нищему: нужно либо вообще этого не делать, либо дать столько, чтобы он перестал быть нищим; может быть, дать самого себя.
Он сказал да. Цена послушно спряталась в карманы, соглашение состоялось. Дом теперь был его, до осени. Что же до самого дома, он явно не возражал на время отпустить давно проглоченного в предвкушении нового содержимого своей утробы. Собственно, Никто-Откин не думал, что его тоже можно проглотить, - ну, как проглотить никого? Само собой, никак.
Хозяин ушел по тропинке. Он оставил все, даже фотографии жены. Это было бегство. Хозяин оказался легок на подъем. Просто легок. Все было выжжено изнутри.
2.
- Лево руля, Виллем!
- Есть, капитан.
Ничего не происходило, никто не шевелился, никого не было, но голоса звучали, а корабль плыл.
- Поднять кливер!
Скрипел штурвал, стекло компаса отражало серебряные облака.
- Эй, Дирк, помнишь трактирщицу в Гамбурге?
- Еще бы… Трави шкоты!
Но парусов не было тоже. Голые мачты, какие-то обрывки на снастях, в кают-компании на столе – засохшая рыба, окаменевший хлеб, бутылка с синевой испарившегося вина…
- Капитан-то наш, верно, доходец подсчитывает.
- И боцман тоже. Выбросили купца за борт, думали, шито-крыто будет, да мы-то видели!
А вот чайки говорили взаправду, каждая свое, и друг друга понимали. Плаванье было каботажным.
- Право руля, черт возьми! Впереди рифы!
Но не было никаких рифов, не было мели, хотя темные тучи у горизонта и в самом деле были сушей. Ничто не мешало кораблю плыть, а голосам звучать, самим по себе. Голоса были живыми, люди – мертвыми, но с живыми голосами. Мертвые молчат красноречиво, а уж если заговорят...
3.
Отражение жило на дне жестяного ведра. По утрам оно было веселым, вечерами – мрачным, сосредоточенным – на чем? Утренним отражением умываться было приятнее.
Потешным дымом – как будто нарисованным – курилась печка. Дом тоже жил своей жизнью, дышал белыми кирпичами печной кладки, иногда кряхтел мощными крашеными дубовыми половицами.
Кружка с «воином-освободителем», яйцо, хлеб с маслом, посыпанный стеклянными блестками сахара… Завтрак. Солнце указывает лучом на скудную еду и смеется.
Ничего, зато после завтрака можно сесть за машинку цвета хаки и начать выстукивать: «Летучий Голландец. История сюжета». Знакомая история выстукивается сама, Летучий Голландец плывет по машинописным волнам Рейна – не зря ведь машинку зовут «Рейнметалл».
На чердаке – чей-то топот, чуть ли не драка. Кто там еще? Он идет посмотреть, перебирает ногами скрипучие лестничные клавиши. Чердак, пуст, окна затянуты паутиной, нет, не совсем пуст – в углу сундук, старинный, пыльный и тяжелый, не открывает себя, держит свое в себе. Внизу, на террасе, есть топорик…
Вот замок сбит. И сразу – запах табака, густой, чуть гнилостный. Кто кашляет? Никто не кашляет? Еще как кашляет!
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо и бутылка рома.
Йо-хо-хо было, бутылки не оказалось, Лежала морская подзорная труба, рядом обнаружились фланелевая тряпочка с двумя кремнями, очень длинный старинный пистолет с инкрустированной тусклым перламутром ручкой и – шкатулка, большая, лаковая. Она открылась без помощи топорика. Внутри были старинная морская фуражка и тяжелый бронзовый ключ.
«А где же пиастры? В таких сундуках – чтобы не было золота?»
Но беда была в том, что Н. думал о деньгах, а они вовсе о нем не думали, никогда. Деньги живут своей жизнью, у них свои симпатии и антипатии, свои любимцы. Однако – зачем ему здесь деньги? На еду хватит, а больше все равно ничего не купишь. Интересно только, что за ключ, никакой похожей замочной скважины в доме нет. Но все-таки, если есть ключ от двери, должна же быть и дверь для ключа!
Он закрыл сундук и спустился в сад. Дорожки давно заросли травой, огород – тоже, яблони зато исправно плодоносили. Что же наверху? Солнце каталось как блин по намасленной сковородке. Под одной из яблонь обнаружилась потемневшая от дождей скамейка. Н. сел, задумался: откуда такой сундук в валдайской глуши? Откуда я сам в валдайской глуши? Время тихо звенело, просачиваясь меж деревьев куда-то в междеревье.
Дом стоял совершенно невозмутимо, окна тихо бледнели, отражая серо-голубую матовость послеполуденного неба. В одном из окон показалась женщина, она смотрела на него. Н. вздрогнул, в той комнате он еще не был.
Он бросился в дом, добежал до двери, постучался, вошел. Пусто. Двухспальная кровать с никелированными железными шишечками по углам, без матраса, шкаф красного дерева. Он открыл створки, как будто ожидая увидеть там, внутри, кого-то. Но в шкафу жил лишь запах лаванды, густейший. Н. отпрянул, затем вновь заглянул внутрь. На полочках – шали, в другом отделении висит старинный плащ, ничего особенного, просто плащ-накидка, грязно-оранжевый.
Никого.
Он раскрыл фрамугу, пропихнул в нее край занавески, чтобы отметить окно, и вышел в сад. Окно было не то, где он видел женщину! Он зашел в соседнюю комнату, совсем пустую, и тоже вывесил наружу занавеску. Это окно оказалось с другой стороны от окна с женщиной. Между этими окнами в доме комнат не было. Это окно в никуда, понял он. Или из ниоткуда.
4.
Что попало в окна памяти, что пропало, что видно со вспышкой, а что хоронится в темноте... Та женщина – видел ли он ее раньше? Присутствовала ли она в его прошлой жизни или в нынешней нежизни? Кто знает... Он попробовал представить себе ее с ребенком. Есть такие женщины, которых невозможно представить себе с ребенком. Она казалась как раз такой. Была ли она была порождением этого дома – его серой пыли, неказистой кухонной утвари, речной сырости? О ней нельзя было думать как о матери – впрочем, и как о возлюбленной или о жене. Нет, просто женщина этого дома, пусть даже ее и нет. У каждого места есть своя душа, женская.
«Что такое душа? – задумался Н., и от этого вопроса у него неприятно заныло под ложечкой, а перед закрытыми глазами зазеленели контуры огненного самолета. - Если есть душа, значит, должно быть прошлое. Если же, как у меня, прошлого нет, значит, нет души? Или она таится, ждет, чтобы теперешнее настоящее стало прошлым, накопилось?»
Потом ему стало смешно. Где же еще думать о душе, как не в доме с привидениями? Угораздило же его сюда попасть! Сразу пришла в голову рифма – «пасть», и он подумал: что это, инфинитив глагола или же существительное? Если второе, то да, от этой самой пасти он и бежал сюда. Но может быть, это все-таки инфинитив, обозначающий падение?.. От этого слова зеленый огненный самолет в глазах стал нестерпимо ярким и закололо сердце – так, что он лег на диван с вытертой канцелярской кожей и постарался прекратить всякие филологические игры то ли сознания, то ли подсознания, вообще ни о чем не думать. Боль ушла, и вместо нее, заполняя оставленное ею место, пришел сон.
5.
Проснулся. Холодно... Простыня мокрая, одеяло тоже. Спустил ноги на пол, они погрузились в воду. Наводнение!
Кое-как засунув ноги в сапоги и накинув на плечи ветровку, выбежал во двор. Там, как ни странно, было сухо. В саду горел зеленый фонарь, освещая все вокруг странным мертвенным светом.
«Как же это, река, что ли, хлынула в дом, хочет меня обнять, утянуть на дно?»
Воды разливались перед его глазами, бились волнами о виски.
«Дом догоняет меня!»
Испугался, зашагал прочь, густой подлесок держал его силками трав, ловил капканами коряг. Вдруг за деревьями мелькнуло красное платье, на миг показалось лицо… Не может быть, сказал он себе, ее же нет на свете!
Потом стало ясно: то, чего нельзя увидеть, он и не видел, да и видел ли он вообще что-то? Н. лег на траву и закрыл глаза.
Глаза потом открылись сами. Он снова был в постели – как добирался домой, непонятно, и спросить не у кого. В окне серело раннее бессолнечное утро, на нем была одежда, забыл ли он ее снять, что ли? Ох, даже сапоги не снял... Воды нигде не было, все вещи почему-то оказались сухими. Ему страшно хотелось спать, и он скинул сапоги. Из одного выпала на пол пуговичка, не красная, нет. Золотая.
6.
По улице, за угол, снова по улице, вниз под уклон, между бочками, через канаву, в обход телеги, по мосткам, через лужу прыжком, и потом по улице опять, и куда уже забыл, но нет, вспомнил, еще два квартала, налево, потом направо и прямо, прямо... И оказывается, что куда-то себя привел, и тому рад: хорошо, что нашлась конечная точка, которая бывает у всякого пути, но не во всякой можно приятно провести время.
Как, например, здесь, в этой роттердамской харчевне, в матросском чистилище, где чад, табачный дым, темнота по углам, напряженный низкий гул, все говорят одновременно. Фигура в ржавого цвета камзоле и несвежих шейных кружевах водит себя от стола к столу, с видимым усилием, где-то говорит долго, где-то перемолвится лишь словом. Сразу гонят? Но фигура перетекает к следующему столу, и опять: «Бу-бу-бу-бу…»
- Кто это? - спросил соседа по столу пехотный офицер.
- Дирк Слоттам, - ответил старый матрос, наклонившись над столом, как подрубленная мачта. - Плавал я с ним как-то, он боцманом был на том корабле. Сейчас набирает людей на «Хрустальный ключ»; это такая старая антверпенская посудина, то ли шхуна, то ли барк. Собирается плыть в Ост-Индию – на этой развалюхе!
- А что, не доплывет?
- Я бы не рискнул на ней даже выйти на рейд.
- Зачем же он тогда команду набирает?
- Кто его знает? Хорошо заплатили, наверное. Отчаянный малый – и таких же, себе под стать, ищет. Они все погибнут!
Табачный дым свивался в тихоокеанские облака и серел морской пеной, фигуры в углах трактира сплетались в смерчеподобные столбики и вновь расплетались. Одна из фигур неясно вырисовывалась на другом конце стола, она казалась скорее реальной, чем привидевшейся, и матрос понял, что за столом был кто-то еще, молодой морской офицер.
- А я наймусь, - сказал морской офицер, которого звали Кеес ван дер Вейде. – Мне предложили быть помощником капитана. Они действительно хорошо плятят – кто бы они ни были, и потом, я знаю это судно. Выглядит не очень презентабельно, конечно, но может еще полвека проскрипеть, а то и больше.
- Смелый вы человек, - покачал всклокоченной седой головой матрос и долил себу рома из кувшина. – На такой риск идти – это все равно, что билеты в рай покупать.
- Ага, вы тоже знаете эту историю! – подмигнул ему ван дер Вейде.
- Какую историю? – спросил пехотный офицер, по-аптекарски прищурившийся, поскольку отмерял в это время очередную дозу портвейна в свой стакан.
- Сейчас расскажу. Занятная, между прочим, история, - начал ван дер Вейде. – Было это много лет назад, когда у нас здесь неподалеку был большой монастырь. Так вот, прибегает как-то раз молодой монах брат Амвросий к настоятелю Бонифацию и испуганно шепчет ему прямо в сморщенное, как фига, ухо: «Отец мой, в соседней деревне один беглый монашек продает билеты в рай». Удивленный настоятель, чуть не поперхнувшись мозельским вином, говорит: «В самом деле? И почем?» «За сумму, равную церковной подати», - отвечает брат Амвросий, запустив нервные пальцы в остатки своей русой шевелюры. «И у них находятся деньги и для него, и для нас?» – спрашивает настоятель. «Выходит, что так, отец мой». Настоятель, в свою очередь почесав тонзуру, хмыкает: «Но ведь эти деньги мимо нас идут! Нельзя ли приобщить хоть часть из них к нашим доходам?.. Я хочу поговорить с этим монашком!» Кадык юного брата Амвросия начинает гулять по тонкой цыплячьей шее: «Да ведь он святотатец, отец мой!» Отец-настоятель, догрызая каплуна, нравоучительно говорит: «Церковь учит использовать ошибки неразумных сынов своих для вящего своего блага».
Ну так вот, монашек был изловлен в каком-то крестьянском доме и приведен. При нем обнаружили грязные засаленные бумажки с таким текстом: «Мы, божьей милостью архиепископ Утрехтский, сим подтверждаем, что податель сего – здесь следовал пропуск в тексте – искупил все грехи бытия земного и удостоен нашего благословения. А посему мы не видим препятствий, дабы впустить его, не чиня препятствий, в царство Божие». Подписаны бумажки были «Смиренный Фредерик, архиепископ Утрехтский».
«Брат мой, ты не отдаешь Богу богово», - сказал отец-настоятель, когда его, по его просьбе, оставили наедине с грешником. Добившись от собеседника полного согласия, отец-настоятель продолжал: «Брат мой, надо, чтобы и наместник Божий, всуе упомянутый, был вознагражден». Полное взаимопонимание с грешником было достигнуто и по этому вопросу. Подпись архиепископа отец Бонифаций взялся подделывать сам, поскольку у него лучше получалось. Крестьяне платили подати, покупали билеты в рай, разорялись и вымирали.
Пришла Реформация. Недовымершие крестьяне с вилами в руках ворвались в монастырь и утопили отца Бонифация в бочке с мозельским вином. Брату Амвросию просто и с сознанием своего гуманизма раскроили череп. Во главе восставших оказался тот самый монашек, решивший, что лучше быть молнией, чем громоотводом.
- Ну и что же, попали крестьяне в рай по своим билетам? – спросил уже потерявший счет выпитым стаканам пехотный офицер.
- Вот этого сказать не могу, - усмехнулся ван дер Вейде. – Видите ли, я в раю не бывал, и учитывая мои планы на будущее, неизвестно, попаду ли я туда вообще.
7.
Его снова позвал сад. Солнце было прикрыто листьями, минуты настоящего одолжили себя у наполненной эхом пустоты прошедших лет. Нельзя смотреть на солнце, но можно смотреть на точку приземления солнечных лучей...
Н. сел на скамейку и закрыл глаза. Тишина. Но нет, кузнечик стрекочет и листья шелестят, это не тишина, тишина – когда нет книг, в такой тишине хорошо думается. Ахматова говорила: можно жить и без книг, вот он теперь и живет. А в городе, в его квартире, остались десятки книжных полок и – тома, тома, все читано и перечитано, больше перечитывать невозможно, все оставлено в прошлой жизни. Теперь остается только смотреть на сад, задумчиво-зеленый, хмурящийся ветерком.
Ворота тоже зеленые. Вот они открываются – и входит жук-древоточец. Нет, не жук, а кто-то жукоподобный, передними лапками обнимает тяжелую железную колбасу.
- Газ привезли.
Вроде бы, никто ничего не заказывал, и Никто в том числе, но потом пришли мысли: может быть, сбежавший хозяин заказал?
- Сюда, - показал Н. газовщику на дверь кухни.
Баллон был установлен, но газовщик так и не распрямился, остался крабоподобным. Чернявый жук, чего-то он еще хочет.
- Вода есть?
Ага, пить хочет. Где чайник? Но чайник прятался, поэтому Н. показал газовщику на ведро. Тот поднял крышку – и сильно вздрогнул.
- Ой, кто это у вас там?
В ведре оказался всего лишь пучок водорослей.
- Померещилось, волосы там чьи-то, - успокаивал сам себя газовщик, после чего запустил руку в ведро. - А водоросли-то морские! Разводите?
- Н-да, вместо морской капусты, - хмуро отозвался Н.
Газовщик так и ушел, забыв напиться.
8.
- Говоришь, водоросли у него там? - спрашивал начальник
райотдела милиции Меринос, купаясь в живительном ветерке от старого вентилятора «Победа» с резиновыми лопастями в форме ослиных ушей.
- Так точно, водоросли. Морские, - отозвался давешний газовщик, и пятно пота на его мутно-голубой милицейской рубашке поползло вширь.
- Ученый, выходит, - констатировал Меринос, помогая вентилятору мелкими взмахами маленького розового, похоже, дамского платочка. - Не люблю я их…
- Кого? - осторожно полюбопытствовал с удовольствием надевший привычную милицейскую форму младший сержант Василий Сафонов.
- Да этих, шибко умных. Студентов, врачей, доцентов всяких... Враги они.
- А может, он советский ученый? - вошел Василий во вкус
доверительной беседы с начальством.
- Как же… Советские ученые, чтоб ты знал, это карьеристы, а настоящие ученые… О, это умные люди. Но они не советские. Понимаешь, они даже выпить толком не умеют, драться не любят, крепкого словца сказать не могут. Потому я их не люблю. Простоты в них нет.
Висевшие друг против друга портреты двух Ильичей, лысого и бровастого, одобрительно переглянулись.
Почему начальник не любит врачей, Васька выяснять не стал. Он и сам недолюбливал медицинских работников – однажды так сделали ему укол, что потом у него на заднем его лице, как он любил выражаться, выскочил чирей, один из тех, на которые, как на осу, не сядешь.
- Так что ты за ним следи, - подвел итог беседы начальник. - Правда, от водорослей большого вредительства быть не может – у нас их и так хоть отбавляй, река зарастает… Но все равно, надо держать ухо востро.
Капля, неспешно текшая по веснушчатому лбу рыжего, не в масть, Мериноса, съехала наконец ему на переносицу, и он обстоятельно и неторопливо выматерился, доказав, что если матерщина – игра, то он в нее играет на своем поле.
9.
Сделать лицо… Из чего можно сделать лицо? Из яблок, груш, травы, жира, столярного клея, красителей, конского волоса, детских кубиков, строительных блоков, мрамора, бронзы… Но самое красивое – человеческое лицо, мужское, женское, не сделанное, без яблок, жира, красителей и т.п.
Такое лицо было у женской резной головы, венчавшей нос барка «Хрустальный ключ», потому что то был именно барк, не шхуна и не баркентина, и стояли на том барке прямые паруса на фок- и на грот-мачте и косые – на бизань-мачте. Широкоскулый боцман Дирк Слоттам наказывал матросов не только за непочтительные отзывы об их старом корабле, но даже если они при нем называли деревянную голову на носу уродиной или, пуще того, Горгоной Медузой. Нельзя давать непристойные имена хранительнице корабля, небось, на испанском судне бы не посмели, побоялись бы за свои матросские задницы, там розог не жалеют. «Хрустальный ключ» как раз шел мимо испанского берега близ мыса Финистерре.
Капитан до сих пор никому на глаза не показывался, команды отдавал ван дер Вейде, помощник капитана. Матросы, подвыпив, не раз хлопали по плечу боцмана, подначивая его признаться, что никакого капитана, кроме ван дер Вейде, на судне не было и нет. Но Дирк Слоттам, сам матросивший десятилетиями и плававший даже на португальских и английских судах, вовсе не улыбался в ответ на такие фамильярности; он крутил и крутил свой длинный рыжий ус, со всей фрисландской обстоятельностью слушал говорившего до конца, а потом отвечал: у нас есть на судне капитан и зовут его капитан Фалькенберг, просто ему сейчас неможется и он лежит у себя в каюте.
Один из матросов, перебравший рома и не удовлетворенный объяснениями боцмана, полез было на него с кулаками. Слоттам ударил его только раз коротким, но молниеносным движением руки, похожей по толщине на бычью ляжку. Очнувшийся к ночи матрос потом шутил, что ему, должно быть, рухнула всей тяжестью на голову сама Горгона Медуза.
10.
В-седьмых, есть все равно захочется. Сколько бы продуктов ни было в доме. Через какое-то время – скажем, на седьмой день – обнаруживается, что осталось какое-то странное сочетание – к примеру, венгерский зеленый горошек в банках и карамель «Театральная» – и есть это уже больше невозможно. И тогда человек выходит из дому, делает великие географические открытия, без телескопа замечает новую планету, попадает под троллейбус или покупает себе еду.
Продукты – это продукт чьего-то труда, трудится либо человек над природой, либо природа – над собой. Человек еще не научился из трудов над собой извлекать что-нибудь съедобное. Может быть, и научится, определенно научится.
А покамест Н. шел по лесной тропинке, удаляясь от дома и одновременно от реки, и приближался к человеческому жилью, а главное – к сельскому магазинчику. И продавались в том магазинчике серый белый хлеб, ржавая селедка, баночные кильки в томате, соль крупного помола, лавровый лист в пакетиках с изображением лаврового листа и проигрыватель «Аккорд» с пластинками хора имени Веревки и вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы». И была там продавщица, простоволосая и любопытная, начавшая с вопроса:
- Вы кто?
- Я здесь живу, - ответил Н., чтобы не признаваться, что он Никто, хотя подобный ответ и напрашивался.
- А, так это вы снимаете старый дом у реки… И что вы там
делаете?
- Отдыхаю, - ответил Н. и добавил: - Думаю.
Это, конечно, было сказано необдуманно. Никогда не говорите простым людям о своей способности размышлять: это не вызовет в них ничего, кроме немого удивления. Потом же всем встречным и поперечным будет доложено, что вы – опасный чудак.
- Интересно, о чем таком интересном здесь у нас можно думать? – пожала плечами продавщица.
- Ну, думать можно о чем угодно, не только о том месте, где в данный момент находишься... Скажите, а почта у вас тут есть? – спросил он и тут же подумал: «А зачем мне — письма посылать опасно».
- Есть — на соседней улице, - ответила продавщица. - Сестра моя там работает.
- Одна?
- Большую часть года одна, но ей сейчас студент один помогает, по фамилии Голодрыга. Придурковатый.
- Почему придурковатый? - удивился Н.
- Он все время все путает, письма не туда складывает, и сестре потом приходится сортировать заново. Говорят, его зимой из института чуть не выгнали. Такие вот у нас молодые кадры растут...
Н. с трудом уложил продукты в огромную авоську и на всякий случай связал ручки бечевкой. Можно было, конечно, купить и проигрыватель, но прилагаемая к нему фонотека явно была неудовлетворительна. Вот если бы кантаты Баха или, для смеха, вагнеровский «Летучий Голландец»! Впрочем, оперу эту он знал назубок, да и на всякий случай привез с собой партитуру.
Авоська оттягивала руку, плетеные ручки врезались в ладонь, и он остановился, чтобы обернуть их носовым платком. Во время этой операции его заметил из милицейского окна сержант Васька.
- Товарищ капитан, идите нашего ученого смотреть.
Капитан Меринос, вытаскивавший из толстого веснушчатого указательного пальца занозу, чертыхнулся, воткнул в многострадальный палец еще и иголку, выматерился, извлек иголку, воткнул ее в лацкан милицейского кителя и затопал наконец по крашеному полу в направлении окна.
- Этот? - удивился он. - Старый какой-то. Седой. Похоже, он не опасен. Какой-то побитый жизнью…
Немного отдохнув, Н. продолжил свой путь к дому. Тем временем в милицию прибежала запыхавшаяся продавщица.
- Ну, спросила, чем он занимается? - осведомился Меринос, снова принявшийся поддевать иголкой кончик занозы.
- Спросила.
- И что же он делает?
- Думает.
Тут Меринос подцепил таки занозу и, скривившись от боли, вытащил ее.
- Тттвою мать, - сказал он занозе и потом, после паузы, подвел беседе итог: - Нет, все-таки он опасен.
Н. тем временем подходил к границе своего участка. Границей этой служила колючая проволока, тремя рядами натянутая между вбитыми в землю неструганными деревянными столбиками. Н. мог бы поклясться, что еще несколько часов назад, когда он уходил, забор стоял заметно дальше от дома. Он прошелся вдоль забора, но никаких следов, что столбики переносили, не было. Померещилось? Или кольцо колючей проволоки сжимается само?
11.
Ночью – белое облако на черном фоне. Говорящее.
- Если я спрошу тебя кое-что?
- Спрашивай, - выдыхает облако.
- Почему нет мне покоя на земле?
- Вот так вопрос... Ты действительно хочешь знать?
- Да.
- Потому что тебе не повезло: ты попал не в ту страну, не в тот век, и хуже всего, что ты не тот, кем кажешься...
- Возможно...
- А если совсем коротко, тебе нет покоя, потому что тебе нет места.
- Почему же мне нет места?
- Потому что ты хочешь быть не тем, кем задуман.
- Не тем?
- Да. Ты хочешь быть умнее и лучше. Это не проходит безнаказанно.
Черный пар шел у белого облака изо рта, то есть оттуда, где должен быть рот, то есть оттуда, чем оно говорило. Или смеялось?
В следующем сне ему явился человек с зеркальным лицом. В нем отражалось собственное лицо Н., только глаза были закрыты и щеки бледны.
- Ты не умеешь умирать, - сказал человек с зеркальным лицом. – Я буду тебя учить. Здесь нужен навык. Надо научиться смерти, обрести опыт…
Гость стал учить его умирать, показал в бесконечном калейдоскопе картинок все виды смерти. В эту ночь Н. умирал многократно – тонул в море, падал с крыши, задыхался от дыма и ядовитых газов, погибал от рук убийц и палачей, кончал с собою и тихо угасал на старческом одре. Он понял, что смерть может быть скучной, как любое привычное занятие, и еще он понял, что никакого опыта быть не может, каждый раз умираешь заново – а утром, если повезет, просыпаешься…
Действительно, проснулся: что-то щекотало его веки. Круглолицое настольное зеркало испытующе нацелило солнечные лучи прямо ему в глаза.
12.
Волны бегут босиком, играют в футбол, гоняют солнечный мяч, разбивают его на тысячу осколков, потом вновь собирают и вновь играют.
Вот пройдены Канарские острова. Уже в теплых водах их подстерег шторм, ветер трепал «Хрустальный ключ», как кот недодушенную мышь. Паруса были взяты на гитовы, но корабль все так же трещал и скрипел. После очередной волны, потрясшей корпус и отломившей часть фальшдека, среди матросов началась паника; они поняли, что кого-нибудь из них вот-вот смоет за борт, и стали искать укрытия, кто где. Боцман ходил по палубе, цепляясь паучьей хваткой за каждый свисавший канат или линь, и привычно раздавал зуботычины направо и налево в надежде вернуть матросов на свои места, но все напрасно.
В этот момент на мостике показалась странная фигура в черном испанском камзоле с серебряными кружевами и черной широкополой шляпе. Фигура пару минут наблюдала за происходящим, затем – звучно, но не криком – скомандовала:
- Все по местам! Боцман, пошлите двоих крепить шлюпки!
Команда пришлась на паузу между двумя ударами волн, поэтому была услышана.
- Капитан! Это капитан! - зашелестели матросы.
Команда очень быстро была выполнена. Капитан снял шляпу, и все увидели его смуглое, скорее даже желтое лицо и длинные седые волосы, а кто стоял ближе, заметил и резкие черты этого лица, и хорошо вспаханное поле морщин на щеках.
- Я, Микаэль Фалькенберг, ныне избавленный провидением от недута, принимаю командование на этом судне по всем законам человеческим и небесным.
Сказано это было спокойно, но с силой, и матросы без колебаний признали власть этого человека. Ему не надо было кричать или утверждать свое право кулаками, как Дирку Слоттаму, достаточно было слова и взгляда.
«Ага, Микаэль, - подумал боцман, сам впервые видевший капитана: нанимали его через посредников. - Очень смахивает на испанское Мигель. Не тот ли это самый испанский ренегат, бывший капитан английского фрегата, что потом на наших военных судах плавал? Он был известен под вымышленным именем ван дер Деккен, что означает человек с палубы. Впрочем, и Фалькенберг – вряд ли его настоящее имя. Наш капитан, безусловно, дворянин, и кто знает, как его на самом деле зовут…»
Дирк еще раз взглянул на капитана и не увидел его глаз – настолько они были глубоко посажены. В первый раз за всю жизнь боцману стало не по себе.
«Капитан – явно человек отчаянный, - подумал он. - Вернусь ли я из этого плавания к жене и детям?»
Впрочем, Дирк Слоттам умел владеть собой и потому не показал виду, что поддался сомнениям. К тому же его тотчас отвлек следующий необычный эпизод: на мостике появился второй человек в черном. Этот, в отличие от капитана, был одет просто, но в его бесстрастном пергаментно-бледном горбоносом лице было нечто зловещее. Вглядевшись, Дирк понял: самое худшее в этом человеке – это его улыбка.
- А вот и лекаря появилас. Заботливый, на шаг от капитана не отходит, - сказал кто-то за спиной боцмана.
Дирк оглянулся. На пороге камбуза стоял кок-малаец, человек без возраста, и ласково улыбался. Точно так же, как и лекарь.
13.
Сперва Илья Пророк обращается к небесному воинству. Голос его – раскаты бессчетных жестяных листов. Но вот время выдвигать звездоносную кавалерию. Кони огненные и кони ночного мрака бьют тысячами копыт в небесную твердь, рождая бледные искры, вздымая клубы серой пыли. Силы тьмы сплачивают ряды, вступают в бой. И почти сразу они разбиты, бегут, унося на своих плащах небесную пыль, и поле битвы снова тихо голубеет.
Все, что нам видно снизу, – гроза.
А утром – за молоком, по берегу реки, между коряг, по гладкому песку, а ведь хочется и по молочному водному зеркалу, но тропинка уводит вверх, на поляну, в обход поля – и вот уже первые крыши, и куры под ноги попадаются. Деревня Протори.
Бидон парного молока да яйца, а еще – пучок укропа и лопоухих салатных листьев. Дед слепой, бабка сама с коровой управляется, ну, и дочка помогает, хотя ей скоро родить. Н. покупает – дешево, копейки! - еще и букет белых флоксов. Все-таки с цветами веселее.
Тропинка ведет обратно, в обход поля, на поляну, к высокому берегу, вниз, к дому… И тут он остановился. Как дом похож на корабль – эти мансарды, мезонины – так ли они называются? – все прилеплено, надстроено, и боковой фасад – как корма каравеллы. Только линии бортов прямые, как у речного теплохода, не как у морского парусника. И дерево торчит, насквозь проросшее веранду. Мачта. Мечта...
Одномачтовое мое суденышко, куда же мы плывем? Бесполезно задавать классический вопрос девятнадцатого века: «Куда ж нам плыть?» - потому что ведь уже плывем, и не по своей воле. И не знаем, куда. Узнáем?
14.
«Хрустальный ключ» был уже в тропических водах и салютовал солнцу оранжевым вымпелом, послушно следуя за раскаленным светилом по солнечной тропинке, а оно усколькало от него, пряталось за волной, потом за облачком, и за следующим, и подмигивало, ослепляло, и вообще, делало все, что оно делало, с энтузиазмом, так что матросам приходилось обматывать головы тканью. Питьевую воду экономили.
Между вахтами матросы укрывались в кубрике и травили байки.
- ...он был женат шесть раз подряд, и все неудачно. Так вышло, что всех его жен звали Дортхен Петерс… Да нет, это разные жены были, только вот имена у всех оказались одинаковые. На каждой из них он был женат по три месяца. Теперь, завидев издали девушку, которая ему нравится, он кричит ей: «Эй, Дортхен Петерс!» Если она откликается, он убегает.
Матросы загоготали.
- Эй, Япп, а ты правду говоришъ? - поинтересовался кто-то.
- А зачем тебе правда, когда смешно? - ухмыльнулся другой.
- Магия имени, - глубокомысленно изрек старый матрос.
На палубе Дирк Слоттам проверял такелаж. Увидев молодого помощника капитана, как раз проходившего мимо, боцман спросил его:
- Что за человек этот лекарь?
Ван дер Вейде пожал плечами:
- Кто его знает… Итальянец, родом из Флоренции, но говорит почему-то с испанским акцентом.
- Не нравится он мне, - сказал Дирк.
- М-да, философия симпатии, - улыбнулся молодой офицер, человек образованный, в свое время учившийся в университете. – Я вот вам расскажу одну историю о человеке, который был очень популярен в народе. О нем даже песни слагали.
Дело было в одной заморской испанской колонии, которая называлась Санта-Анна – не буду говорить, где она расположена. Губернатор дон Альваро де Фуэнтес любил покой, однако ему приходилось колонией той управлять, то есть заниматься беспокойным делом. Более же всего дон Альваро любил играть на клавесине. Его офицеры тем временем гонялись за пиратами. Губернатор не отдавал им приказов, но офицеры были весьма деятельны. Пиратские корабли разлетались как осы из гнезда, когда по нему бьют палкой. Порою палка доставала одну-две из этих ос, но самого упорного и кровожадного из пиратов поймать никак не удавалось. Звали его Гассан, он потопил уже десяток купеческих кораблей и поубивал множество народу. Пленных он не брал.
Офицеры ловили его восемь лет и так и не поймали. Гассан попался сам – забрел ночью в город к какой-то девке, а наутро случайно встретил на улице сержанта, что знал его в лицо. Когда пирата вязали, он без всякого оружия лишил жизни того самого сержанта, задушив его голыми руками.
Пленника привели к губернатору, восседавшему за чаем на террасе дворца. Перед доном Альваро стоял чернобородый зверь – коварный, бесстрашный и безжалостный. Офицеры предложили так же безжалостно его вздернуть.
Губернатор посвятил то утро менуэту Куперена. Младшая дочь уже умела играль эту пиесу, теперь предстояло продемонстрировать ей тонкости трактовки. Эта сложная задача набросила тень заботы на златокудрое губернаторское чело.
- Казнить? – удивленно проговорил дон Альваро, и капельки пота выступили на его лбу. – Вы хотите так вот легко устранить все трудности – и его, и ваши? Нет, пусть он ощутит всю неотвратимость кары, всю насущную необходимость гармоничной жизни.
- Дон Альваро, он же убийца! – выступил вперед молодой лейтенант де Кастро, юный герой со шрамом челез всю щеку. – Он убил девяносто шесть человек!
- Но ведь не сто же, дорогой мой, - улыбнулся губернатор. – Казнить – это бездарно. Бросьте его в каменный мешок.
Гассан смотрел на него исподлобья взглядом хищного животного, которому дали шанс уцелеть. Ухмылка появилась на его блудливых губах.
Пирата увели. Офицеры еще долго не отступались, но губернатор страдальчески наморщил лоб:
- Настаивать – это неэстетично.
Шли дни. Гассан сидел в каменном мешке и слушал через вентиляцию звуки клавесина. Через неделю он от этих звуков настолько осатанел, что ночью пробил стену спинкой от кровати, взобрался по печной трубе в покои губернатора, удушил двух его дочерей и жену, а самого губернатора, сломав пополам, засунул в клавесин.
Выбираясь из дворца, Гассан тяжелым подсвечником размозжил головы четверым охранникам, а затем, в виде компенсации за труд, прихватил мешок с монетами. Убедившись по дороге, что это не золото, разбойник швырнул мешок окрестным нищим.
Утром горожан разбудили булькающие звуки валторны с пиратского брига, несколько напоминавшие извержение больного кишечника. Лейтенант де Кастро дал в сторону брига запоздалый залп из гаубиц.
Так пират пополнил список своих жертв и даже перекрыл круглую цифру на столько же, сколько ранее не хватало. Поговаривали, что если бы следующего губернатора выбирали, а не назначали, им бы точно стал Гассан.
– Ну вот, а теперь скажите, что вы думаете о симпатиях и антипатиях, а также о популярных в народе личностях, – завершил свое повествование молодой помощник капитана.
Боцман не нашелся, что ответить.
15.
Плавание – это перемещение тел в сопротивляющейся среде. Среда эта колышется в самой себе и собою довольна. «Кому только в голову придет во мне перемещаться, - думает она, - и вообще, там, где я существую, всякое движение возможно лишь с моего позволения и при моем участии. Кого я не допускаю в себя, тот не поплывет».
Однако каждое исключение из сего правила однажды возьмет да и бултыхнется в воду откуда-то сверху, рождая возмущенные брызги. «Не ждали, – водянисто поет среда, – да и в сущности, надо ли это?» Но ветер – а ему только дай возможность покуролесить – уже толкает плавучее тело куда-то к подразумевающимся берегам. И все это назывывается плаванием. Или, может быть, судьбою.
Как-то вечером вахтенный заметил шлюпку – она дрейфовала без паруса и без весел. Подошли поближе, подцепили шлюпку багром. На дне лежал человек, лицом вниз. Убедившись, что он дышит, его перенесли на корабль. Это был пожилой мужчина, и одежда на нем выдавала его высокое происхождение. Сейчас его бархатный камзол превратился в лохмотья, на затылке была рана, вокруг запеклась кровь. Скорее всего, он стал жертвой пиратов, каким-то образом заплывших в эти южные воды, хотя обычно южнее Канарских островов они не забирались.
Пришел лекарь, разогнал матросов и склонился над лежащим.
- Не жилец, – наконец сказал он.
Дирк, только подошедший, уловил на лице лекаря еле заметную усмешку – как будто он радовался чужому несчастью.
Подошел и капитан, как раз в тот момент, когда лекарь расстегнул пояс лежащего и из него высыпались монеты. Капитан наклонился, подобрал пару монет и стал их рассматривать,
- Дублоны, – сказал он. – Это испанец. Бросьте его в море.
- Может, он выживет? - неуверенно возразил боцман.
- Это испанец, - повторил капитан. – Враг. Исполняйте приказание.
«Боится, что этот испанец его узнает», – подумал боцман.
Уже почти стемнело. Лекарь взял испанца за плечи, Дирк – за ноги, тело раскачали и бросили в воду. Послышался слабый стон – и испанец пошел ко дну.
- Нехорошо мы поступили, - покачал головой боцман. – Он мог бы выжить.
- Мы сами скоро будем умирать – от жажды, – тихо проговорил капитан. – Его жизнь стоила бы наших двух.
- Что будем делать с деньгами? – спросил практичный Дирк.
- Они твои, о мой честный фрисландец, – насмешливо сказал капитан.
Боцман покраснел и покосился на лекаря.
- Ну, этот человек – бессребренник, – улыбнулся капитан. – Как и я.
Дирк собрал дублоны и сунул их в карман штанов. Наличие маленьких детей у человека как-то избавляет его от излишней щепетильности.
16.
Вечером был ветер. Он раскачивал деревья и звезды, говорил: я все перетряхну в этом мире. Ветер всегда много обещает, но каждый раз настает тихое безветренное утро, молчаливое утро. И все остается таким как прежде.
Ночью сквозь вату сонных облаков пробрался человек в матросской робе и спросил: «Что ты сделал с нашим кораблем?» И еще он спросил: «Хорошо ли сидеть на мели?» Н. подумал, что это о деньгах, но оказалось, что о доме. Фигура в робе почему-то упорно называла дом кораблем.
Ответов не требовалось. Последовал и еще один вопрос: «Сколько у тебя осталось времени?» И когда Н. отчетливо подумал, что этого никому не дано знать, фигура конкретизировала: «До отплытия». Здесь тоже не требовалось ответа. «Ты ничего не знаешь о будущем, - констатировала фигура, прежде чем исчезнуть. - Это плохо. Надо знать».
После такого сна ничего не остается, как проснуться. Н. встал и вышел на веранду – на другую, где еще не был: как-то так получилось, что он обычно сидел на веранде, пронзенной деревом, на веранде «с мачтой», как он ее называл. Другая веренда выходила на воду. Н. поставил стул, сел. Дальний берег был низким и зарос кустарником, где-то далеко мерцали золотые огоньки – наверное, там была какая-то деревня. С реки пахнуло сыростью, илом, тайной. Почему река сделала такой извив к этому дому? Или почему дом стоит так близко к воде? Или почему он, Н., в этом доме?
Небо начало чуть светлеть. Пролетела бабочка-совка. «Сколько осталось временя до отплытия?» А хочется ли отплывать? И куда? Так тихо все вокруг… А куда ведет вот эта лесенка с веранды? Деревянная лесенка уходила прямо в воду.
И тут Н. сделал то, чего раньше не делал: снял с себя всю одежду и спустился прямо в воду. Вода оказалась черной и теплой. Н. решил переплыть реку, благо в этих местах она была не слишком широка, он выбрался из-под террасы и теперь плыл в одном направлении, не имея перед собой никаких ориентиров.
«Когда плывешь, есть какая-то цель, - плескались его мысли в такт движениям рук. - Ну, хотя бы доплыть. Приятное ощущение – что есть цель».
Через какое-то время он коснулся ногами дна. Другой берег. Перед ним был темный частокол камышей, решительно взявшихся имитировать один из окрестных заборов, что были того же цвета. Н. не стал выходить из теплой воды; он отдыхал и смотрел на громаду своего дома, видевшегося отсюда черным пятном на фиолетовом небе.
Потом он решил все-таки выйти на берег. Камыши расступились и пропустили его в объятия мягко ласкавших его ноги невысоких кустов. Чуть подальше кусты были уже повыше, за ними что-то неясно светлело, отливало золотистым блеском. Ему послышался чей-то голос, тихий треск. Туристы у костра? Вот уж к кому он не хотел бы подходить, так это к ним. Слово «турист» запускало какой-то потайной механизм его памяти, которая тут же расплескивалась звуками комсомольско-блатных песен и бульканьем водки в рюкзаках…
Он уже собрался было вернуться к воде, когда за кустами вдруг послышался стон. «Что за чертовщина там все-таки происходит?» – спросил он себя и решил подступить поближе. Вот он уже нашел щелку между кустами акации.
Перед ним была заросшая невысокой травой полянка. Костер был почти рядом с ним, он безропотно догорал, между костром и кустами на дальнем конце полянки было расстелено на траве верблюжье одеяло, и на нем медленно сплетались, сливались в поцелуе и снова расплетались два обнаженных тела.
«М-да, вот и на праздник плоти попал незванным гостем, - завертелось в голове у Н., и он тут же заметил, что оба тела были женскими. - Ого, это уже интересно, - усмехнулся он про себя. - Ведь говорят, у нас нет “неуставных отношений” между полами, то бишь внутри этих самых полов!»
Силуэты задвигались активнее, быстрее, и наконец взору Н., до сих пор видевшего лишь передвижения рук, грудей и ягодиц, явилось лицо, молодое, скуластое, симпатичное, с темной бородавкой на щеке, почти прикрытой светлыми растрепанными волосами. В лице было что-то хищное и в то же время беззащитное. Вот это лицо скрылось где-то за локтями – и вынырнуло другое лицо, почти детское, круглое, белокожее, веснушчатое, окаймленное длинными рыжими волосами. «Этой лет шестнадцать, - понял Н., - может, это у нее в первый раз, а та постарше, поопытнее, ей, наверное, лет под тридцать».
Голова старшей девушки скрылась между бледневшими в свете костра ногами рыжеволосой. Та задвигалась, застонала, закусила губу. Н. почувствовал, как у него захолонуло сердце, может быть, принимая сигнал или какую-то неясную команду от восставшего против чего-то – уж не против собственного ли неупотребления? – мужского органа. В панике не чуя собственных ног, Н. попятился, добрел до воды – и отдался реке, уютно улегшись на ее холодное лоно.
«Эх ты, испугался зова плоти!» – отчитывал он себя, плывя обратно. Тут же пришла мысль, что все равно эти два тела не для него, что вообще неизвестно, есть ли тело, которое – для него, особенно после… после того, о чем не нужно вспоминать, потому что нельзя, потому что самим собой самому себе строго запрещено.
«Вообще, нет такого понятия как тело для тела, - потому что зачем-то вмешивается душа, и выдвигает свои требования, и заставляет искать идеал, и все эти поиски заканчиваются полным отчуждением от мира телесной жизни».
Вода отвечала на его размышления тихим черным плеском. Вода всегда со всем согласна, вода принимает тела и мысли, а иногда и ищущие идеала души. Иногда даже оставляет пришедшие погостить тела на вечный постой.
Он плыл обратно, плыл и плыл, и наконец доплыл. Вот он уже вблизи веранды, надо найти деревянную лестницу. Но в темноте он проплыл мимо и оказался под верандой. Рука его задела что-то металлическое, это была цепь.
Н. улыбнулся: «Вот было бы смешно, если бы оказалось, что дом стоит на якоре. Человек без якоря живет в доме на якоре!»
17.
Зеркало Венеры – не просто зеркало, это зеркало с крестом. Зеркало – чтобы отражать тело, крест – чтобы легитимизировать отражение. Меха остаются в воображении описателя, а тело высвечивается из пустоты. Кто-то видит подстилающие облака тщеславия, но ведь зеркало просто отражает то, что проступает в солнечном свете. Кому-то видятся витающие вокруг демоны, кому-то ангелочки, кто-то думает о Тициане, Тинторетто, Веласкесе, Веронезе, а кто-то о любви. Кто-то клянет себя за свои видения... Все это – торжество субъективного над объективным, победа взгляда над глазом. Конечно, временная победа, но длящаяся достаточно долго, чтобы те, что хотят ею насладиться, успели это сделать.
Красота – лицевая сторона монеты, фертильность – оборотная. Многожды воспетая родопродолжателями обоего пола – как противоположность «неуставному» типу взаимопроникновения. «Фертильность – это хорошо, конечно, - думал Н. – я весь за, растим потенцию, естественно и искусственно, общегосударственно, но что потом делать с фаллосом, восстающим в высоту человеческого роста? Охватывающим тебя, как змея – Лаокоона? Таблетка синяя, таблетка желтая – и вот уже мясистая змея хлопает тебя собою по плечу, тычется в уши, три грации сменяются тремя фаллосами с ангельскими крылышками, пальмы стыдятся своих кокосов, и вот уже строится фаллический храм. А главное, какое женское вместилище способно сей соборный фаллос приютить?»
18.
Жара, вода гниет, перед глазами красный туман, воздух вокруг сгустился в тепловатый студень и держит корабль, мешает плыть, так что тот едва скользит по желто-зеленому ковру водорослей. Питьевой воды не хватает, два матроса уже умерли, их похоронили по морскому обычаю – бросили за борт.
- Пристанем к берегу! Почему мы не пристаем?! – ворчали недовольные матросы.
Но приставать нельзя: виднеющийся вдали берег – это экваториальная Африка. Там если кто-то и приветствует посетителей, то это каннибалы, а джунглями суверенно управляют обезьяны, что открывают сеанс кокосометания, чуть только приблизишься. Где-то на берегу есть поселения, но они португальские, а значит, голландскому кораблю туда лучше не подходить. Португалия и нидерландские Северные провинции – соперники в южных морях, а если называть вещи своими именами, то враги. Капитан объявил всем:
- Пристанем в устье Оранжевой реки. До тех пор терпим.
На юге Африки – поселения голландских беженцев, тех, что, пресытившись жизнью под испанской короной, а при ближайшем рассмотрении, под испанским сапогом, или даже внутри него, решили изъять себя из реальности европейской и заново себя изобрести себя на новом месте. В южно-африканских поселениях можно надеяться на помощь. Там дружеский берег, если вообще хоть какой-то берег может быть для судна дружеским. Судно в море – это одинокий охотник, который в то же время и дичь, и охота эта – всех за всеми, а укрытия никакого нет и никогда не будет.
Как же долго еще плыть, как трудно переставлять ноги на палубе этого корабля, как трудно сохранить в себе свою собственную жизнь, которой уже давно хочется в какие-то иные просторы...
- Эй, малаец, отчего умерли те двое? Не помог ли ты им отправиться на тот свет? – весело спросил кока сухощавый матрос, лучше всех переносивший жару.
Стоявший поблизости Дирк увидел: кок не улыбнулся, в глазах его блеснул темный огонь.
На следующий день хоронили весельчака.
Последний бочонок с питьевой водой стоял в капитанской каюте. На нем лежали два заряженных пистолета, а капитан, никто не сомневался, выстрелить не затруднится.
19.
Жара просочилась в его сон, и Н. увидел себя на залитой солнцем Красной площади. Посреди площади стояла статуя голого вождя, нагота его, очевидно, символизировала, что ему нечего скрывать от народа. Солнце отражалось от свежеотлитых хилых конечностей и кругленького живота: бронзовый вождь был далеко не Аполлон, как и сами горожане, которым должен был польстить неприукрашенный облик статуи. Голуби что-то искали на брусчатке площади, а порой взлетали и садились вождю на самые неожиданные места.
Пришли голые уличные музыканты; голуби уступили им место. Из футляров музыканты извлекли других голых музыкантов, поменьше, и начали на них играть,
- Что ж, почему нет медных инструментов, ясно, - сказал голый нищий, - мы же знаем, куда у нас делась вся бронза, кроме той, что пошла на статую. Но где струнные? Неужели тоже продали?
Подошло подразделение милиции; все были голые, но в фуражках. Милиционеры начали делать ритмические упражнения. Собрались голые зрители.
Тут в статуе вождя открылась дверца, кто-то голый спрыгнул на землю и пошел восвояси.
Один из милиционеров с улыбкой спросил:
- Ну, кто еще хочет поиграть в старину – повластвовать и побыть в одежде?
Желающих не нашлось.
«Не может бытъ, - сказал Н. своему сну. - Неужели отучили?!»
20.
Когда человек желает этого, корабль плывет. Когда ветер желает этого, корабль плывет туда, куда желает человек.
Ост-винд, то есть восточный ветер, относил барк от побережья Африки.
- Отлично! - воскликнул капитан, когда ему сообщили об этом. - Значит, не напоремся на рифы. Паруса на ночь не спускать!
- Но так же не принято! Это опасно… - удивился Дирк.
- А я опасности не боюсь и всегда делаю то, что не принято, – улыбнулся капитан и тряхнул седыми кудрями. - Верно, Никколо?
Горбоносый лекарь, который стоял так далеко, что уж никак не мог слышать этих слов, тем не менее кивнул и улыбнулся своей двусмысленной улыбкой.
Боцману стало не по себе.
- О, Никколо, знаете ли, обладает отличным слухом, как все флорентийцы, - сказал капитан. - Он слышит даже то, что мы не говорим, а только думаем. Так ведь, Никколо?
Флорентиец, стоя все там же, поклонился.
21.
Блазнит и чудится в этом доме. Н. зашел в одну из комнат – искал топор, чтобы подправить провалившуюся ступеньку крыльца. Зашел – и остановился: кругом зеркала, и он сам – в десятках разных видов. Вот он маленький, в детской вязаной шапочке с вышитыми кошечками, вот – студент, с нотной папкой под мышкой, вот – Кто-то, кем он был до того, как принял прозвание Никто, вот он сегодняшний, а вот вообще какой-то незнакомый и страшный, с хищной гримасой, в руке топор, на лице – готовность убить кого-нибудь… Убить… Почему-то это слово отзывается в нем странной болью… что-то было раньше, ему знакома эта ноющая боль, это странное состояние. Впрочем, это, наверное, было не с ним, а с кем-то еще. С Кем-то. А он ведь Никто. Но отражение с топором ему не понравилось. И он отражению не понравился. Оно замахнулось на него и стало подступатъ.
Где дверь? Куда спасаться? Кругом зеркала. В какое войти? Он попробовал войти в себя теперешнего, но тот оттолкнул его. Тогда Н. понял: надо искать пустое зеркало. И сразу нашел его, и вошел, и вышел в коридор, и стоял там долго, отерев пот со лба.
«Как много кругом меня!» - вертелись зеркальные блики у него в голове.
Топор он больше искать не стал, подпер ступеньку кирпичом...
И еще в доме, как в море, не звучало эхо. Можно было как угодно громко кричать в пустых комнатах, ронять стулья, бить в старинный барабан, обнаружившийся в одном из шкафов, - все напрасно, эхо молчало. В городе эхо тоже молчит, вспомнил Н. Эхо газетное, разговорное, телевизорное. Такая вот жизнь без эха.
Но в городе, впрочем, как и здесь, сами собой рождались звуки. Жизнь в городе шла под сурдинку – подспудная, незаметная; она тихо пузырилась и булькала. И все было молча – внутри, и очень говорливо – снаружи. И у каждого было свое мнение. Где-то в собственных средостениях, в районе желчного пузыря. Особенно у дураков. У дурака всегда есть свое мнение. И он готов удавить того, кто с ним не согласен. Потому что он, дурак, не может быть неправ. Иначе наступило бы светопреставление.
А потом в одной из соседних комнат заговорило бесполым туристским голосом невидимое радио. Н. хотел было перейти в ту комнату, но потом понял, что и так слышно.
«Начинаем передачу для наших соотечественников за рубежом - радостно сказало радио. - Если вы живете на островах, для сообщения с внешним миром можно воспользоваться рыбьей почтой. Почтовых рыб узнать легко: они голубые с белыми полосками – как почтовые ящики. Быстрейшая из них – рыба-самолет. Есть еще заказные рыбы и рыбы с уведомлением. Посылками же ведает кашалот. Пакуйте бережно, помните о предельном весе.
Рыбья почта надежная и бесплатная, рыбы работают из чистого трудового энтузиазма. Сегодня мы празднуем третье тысячелетие рыбьей почты. Поздравим скромных и неутомимых тружеников глубин!»
Радио закряхтело, замолкло, и Н. услышал свой собственный голос, донесшийся до его ушей как будто извне:
- Вопрос, конечно, в том, что посылать, и против какого течения.
22.
Стук в дверь. Стук в дверь? Не может быть! Один ли это из тех загадочных стуков, что порою гуляют по дому?
Но стук повторился. Настойчивый, требовательный стукостук. Так только гости стучат...
Н. отворил дверь. На пороге стоял мужчина лет пятидесяти, с седоватым ежиком, хорошо выбритый, уверенный в себе, улыбчивый, в английском спортивном пиджаке и с рыжим кожаным портфелем в руках.
- Не мог не зайти в гости к соседу, - заговорил посетитель. Выговор у него был очень правильный, интеллигентский. - Позвольте
представиться – Порождественский. Да-да, такая вот у меня странная фамилия. Но друзья зовут меня Кешей.
Н. даже рассмеялся – настолько не вязалось это детское имя со столь взрослым джентльменом. Впрочем, присмотревшись, Н, понял: в госте есть что-то детское – обезоруживающая наивность, что ли?
- Нет, Кеша – не от английского “кэш”, если вы поэтому смеетесь, - пояснил посетитель.
Н. извинился и назвался:
- Откин.
- А-а, так вы из дворян, - протянул Порождественский. - Мне до вас далеко: я-то – явный поповский отпрыск.
- Я не из дворян, - удивился Н. и чуть было не добавил: «Я – Никто».
- Ну как же, Откин – это от фамилии Боткин, а Боткины были дворяне. Просто у вас в роду кто-то – незаконный сын – когда-то таким детям давали усеченные фамилии. Да-да, не удивляйтесь. Кстати, у вас в роду знаменитый доктор Боткин. Слышали, конечно, про такого? Я сам по медицинской части…
- Вы проходите в дом, - сказал Н. - Извините, что мне почти нечем вас угостить – я не думал, что кто-то придет.
- Что вы, что вы, это я должен просить прощения.
И на столе башней воздвигся коньяк «Наполеон», а из рыжего портфеля свиной кожи появился большой плоский вафельный торт.
- Я к вам по-соседски, - еще раз сказал гость. - Я здесь поблизости на даче живу, у моего дяди. Дядя старенький, не мешает. Заходите как-нибудь – у меня много книг, пластинок.
Выпили за книги и за музыку.
- Вам здесь не скучно? - спросил Порождественский.
- А мне никогда не скучно, - ответил Н. - Я умею себя занять.
- И что же вы делаете?
- Думаю, - ответил Н. и тут же вспомнил, что говорит это уже во второй раз за последние два дня.
- А вы записываете свои мысли? - последовал вопрос.
«А вот и не скажу», - подумал Н., и отшутился:
- Разве я похож на человека, который что-то записывает?
- Похожи, похожи, - заверил его гость, - Хотя вы ведь аскет, у вас морщины на лбу. Интеллектуалы так не живут, ни у нас, ни там.
«Ага, значит, он бывал "там", - моментально мелькнула мысль у Н. - Значит, его пускают. Хорошо, что я не сказал ему о моих записях!»
- У вас здесь совсем нет книг. Как вы обходитесь? - спросил
Порождественский, наконец встав из-за стола.
- Обхожусь как-то.
- Нет, это нехорошо. Но мы что-нибудь придумаем, - сказал
гость на прощание.
Ночью Н. ворочался и не мог уснуть – он пытался вспомнить, где мог слышать эту странную фамилию – Порождественский.
И все-таки он вспомнил, правда, не в эту ночь, а на следующую. Когда-то, в те времена, когда он еще читал газеты, в «Правде» писали о молодом враче-геронтологе, кандидате наук Порождественском, который поехал выступать на конференцию в Англию – и его там якобы похитила английская разведка, чтобы заставить его остаться на Западе. Писали об уколах, которые ему насильно делали, о героизме советского человека, выдержавшего все испытания и вернувшегося на родину несломленным.
«Он действительно такой крупный ученый?» - спросил тогда Н. у знакомого врача.
«Да нет, типичный папенькин сынок, бездельник и плейбой. Вот отец у него – по-настоящему хороший хирург, академик. Сыну до него далеко».
«Так вот что за человек ко мне пожаловал», - сказал себе, засыпая, Н.
23.
Рано или поздно, поздно или рано, наступает день дерьма. Сразу повсюду. И тогда человеческое и собачье дерьмо, коим обильно уснащены поляны, садовые дорожки и тротуары, начинает вонять особо художественно. И запах этот пьянит дерьмовых людей, они всплывают в проруби, и тогда принимаются дерьмовые законы, насаждается дерьмовая идеология, да и в порядочных людях нет-нет да и прошлепнется что-то дерьмовое. И страну тогда зовут Авгиевыми Конюшнями, и все в ней ждут Геркулеса как большого иноземного спасителя. Геркулес приходит и устраивает на определенной части земного шара полувселенский потоп. Но и потом, после потопа, когда все смыто, сломано, унесено водой, люди с глубоко засевшей в глазах дерьмовинкой светло переглядываются: дескать, как мы порезвились!
От дерьмового запаха бежали из Фландрии и из Голландии будущие капские колонисты. Запах исходил не только от испанцев, но и от своих не в меру истовых в вере и ретивых в доносительстве сограждан.
В Африке дерьмо естественное и не столь вселенски воняет. Даже если нагадил носорог, запах не сравнится с тем, что исходит от деяний некоторых европейских людей. Вернее, дерьмовых людей. Не будем употреблять всуе это красивое слово – Европа. Дерьмовые люди – не европейцы, не американцы, не испанцы и не голландцы. Они просто дерьмовые люди.
24.
Бухта раскрывает рот и проглатывает корабль. Очертания ее лица меняются в жевательном экстазе, она хмурится, улыбается, затем снова хмурится, а потом оказывается, что она просто пережевывала корабль, а когда с этим закончила, застыла снова, с невинным выражением лица, в ожидании новой добычи.
Там, где великая Оранжевая река, пересекающая почти весь африканский юг, впадает в Атлантику, есть небольшой залив; в нем и бросил якорь «Хрустальный ключ».
Проглоченное судно, в свою очередь, тоже предается пищеварительной активности. Подобно проглоченной рыбе, что продолжает заталкивать в свою утробу заплывшую туда мелкую рыбешку, стоящее в бухте судно ест и пьет. Весь вечер и все утро маленькие шлюпки закладывали в левиафаново нутро корабля провиант и бочки с водой. Погрузкой руководил ван дер Вейде. Даже со стороны было видно: предстоит длительное плавание.
Экипаж тоже загружал свои утробы пищей и залечивал незалеченное. Из всей команды испытания с виду никак не повлияли на троих: на капитана, горбоносого лекаря и кока-малайца. Двух последних матросы боялись и потому обходили стороной.
Горбоносый лекарь... какое знакомое лицо, кого же он напоминал? Боцман долго, но безуспешно пытался понять, кого. И вот вечером, выходя из хибары одного колониста, оказавшегося давним знакомым его отца, Дирк заметил в пыли монету и поднял ее. При свете факела на ладони мелькнул горбоносый профиль… кого бы вы думали? Покойного короля Испании Филиппа Второго.
25.
«Я придумаю, я придумаю...»
И придумал, да, и позвал, и заставил Н. идти с ним. Вернее, ехать – сначала на электричке, потом на трамвае.
«На третьей от станции остановке трамвая собираются книжные люди. Вы кýпите книгу…»
Так и сказал, книгу. Интересно, имел ли он в виду какую-нибудь определенную.
Они неправильно сосчитали остановки и вышли не на третьей, а на второй. Здесь был лес, красные вековые сосны. Пошли вперед по шпалам. Никого, только белку спугнули.
Откуда-то из-за кустов вышла баба с пустым цинковым ведром.
- Зря идем, - сказал Н. – Ведро видели?
- Ну, видел. Ну, хотите, обратно пойдем. Только мы до остановки до той почти дошли.
И точно, на поляне была остановка. Табличку приколотили прямо к сосне.
«Интересно, как живется сосне, на которой табличка, - спросил себя Н. и сам себе ответил: – Хотя ведь на каждом человеке тоже табличка – лицо...»
На остановке людей оказалось много, и все держали сумки, а в них – где-то глубоко, прикрытые тряпкой, или батоном, или банным веником – были книги.
- Я поищу о себе, - сказал Н.
И нашел.
- Дайте посмотреть, - сказал Порождественский.
На книге было написано: «Сэмюэль Тэйлор Кольридж. Сказание о старом мореходе».
- Это о вас? - спросил Порождественский.
Н. кивнул.
Обратно шли молча. Трамвая не было – его только что отменили.
26.
Путем всякой волны, путем коридоров меж волнами, сквозь твердый ветер и горячий дождь, вниз по карте, дальше от экватора, ближе к полюсу... Следующая остановка в Капстаде, небольшом новом поселении с гаванью, уже известной всем морякам, плававшим в этих водах. Нынешняя непомерная агломерация голосов, шумов и запахов, известная как Кейптаун, тогда была еще в младенческом периоде своего развития, но уже и тогда там останавливались все без исключения корабли, шедшие на восток, в Индийский океан, за пряностями. Здесь оставляли – и получали с попутным кораблем – письма домой и из дома.
В Капстадской гавани порою стояли подолгу, пережидали плохую погоду – огибать мыс Доброй Надежды в бурю не рисковал никто и никогда, вернее, никогда с тех пор, как здесь разбилось несколько судов. Вот и «Хрустальный ключ» стоял на якоре уже неделю. Ветер, правда, давно утих, но капитан отплывать не спешил – по каким-то одному ему известным причинам. Матросы в который раз бросали тоскливые взгляды на Столовую бухту, где в летаргическом сне покачивался на якоре корабль, потом смотрели на примелькавшуюся невысокую Столовую гору, потому что больше смотреть было не на что.
«Вот опять погода испортилась. Шквалистый ветер, теперь опять не отплывешь, - ворчал себе под нос боцман. - Надо, пожалуй, зайти поглубже в бухту и укрыться там от шторма. Да, вот и капитан командует сниматься с якоря…»
Но тут последовала очередная команда: поднять паруса. Дирк не поверил собственным ушам: неужели сейчас – в путь? Ведь будет шторм!
С нижней палубы, где были в это время почти все матросы, послышался ропот: кому нужен напрасный риск? Капитан снова повернулся к боцману и приказал свистать всех наверх.
- Кто боится волн – трус, - звучно проговорил капитан, и пряди седых волос метались вокруг его желтоватого лба, как будто стремясь от него отделиться. – Мы сейчас будем проходить оконечность бухты. Кто хочет, может сесть в шлюпку и убираться куда глаза глядят.
Трое матросов спустили шлюпку, и маленькое суденышко вбуравилось в высокие волны.
- Ставлю гульден, разобьются, - воскликнул кто-то из матросов.
Наскоро были заключены пари, и матросы с интересом наблюдали, как волны в упор бьют по шлюпке, где с трудом работали веслами их товарищи.
Гульден был проигран. Шлюпка доплыла.
Дирка подмывало сесть в эту шлюпку и предоставить безумца его участи, однако помощнику капитана не пристало покидать корабль, а тем более оставлять на произвол судьбы экипаж.
- По местам, - скомандовал он как всегда уверенно, хотя в душе ни малейшей уверенности не ощущал.
«Хрустальный ключ» вышел из Столовой бухты и в свою очередь принял на себя удары ветра и океанских валов.
27.
«И все ж другим – умней, грустней – проснулся поутру…»
Н. проснулся поутру и спросил себя:
«Стал ли я умнее?»
«Да, но поздно, - последовал самоответ. - Научился не доверять людям. И это грустно. И "во многой мудрости много печали, и кто умножает познания, умножает скорбь". И все потеряно. И уже не вернешь… не надо вспоминать, кого. "Он шел бесчувственный, глухой", так и есть. Но не "глухой к добру и недобру". Нет. От этого недобра я и пытаюсь укрыться здесь, а недобро – вот оно, стучится в дверь…»
И действительно, стучится. Нет, это в окно стукнули. Кто там? Яблоня. Ветер гнет ее, хочет сломать. Она защиты ищет, стучится. Откуда этот ветер, настоящий ураган? «И вдруг из царства зимних вьюг примчался лютый шквал…»
Вот оно: «Из царства зимних вьюг». Оттуда, откуда он сам сюда прибыл. Предвещает ли что-то этот ветер? Придут ли за ним следом сами зимние вьюги? Или даже все «царство»? Только его здесь не хватало… Пока что хлынул дождь, капли тоже запросились в дом, но крыша их не пускала, и они обозленно барабанили по ней, плакали на оконном стекле…
К вечеру шквал утих. Верхушка дерева, проросшего сквозь веранду, отломилась, и оно теперь еще больше походило на мачту. Где-то в недрах дома кто-то играл на виолончели «Пеццо-каприччиозо» Чайковского. Дом аккомпанировал жалобным скрипом. Н. стряхнул обычное свое вечернее оцепенение, встал и отправился искать источник звука. Виолончель звучала в той самой несуществующей комнате с окном в никуда.
28.
Вагнер не любил несправедливостей, город Лейпциг (хотя в нем родился) и евреев. Из последних – особенно композитора Мендельсона. Когда он писал «Летучего Голландца», его еще не осенило, что все то, чего он не любит, взаимосвязано и образует некое подобие паутины: все несправедливости – от евреев, особенно от живущего в Лейпциге композитора Мендельсона. К этому кардинальному выводу он пришел в более зрелые годы. Покамест же Вагнер создавал в стране и в опере революционную ситуацию, дирижировал оркестрами и смутьянами, писал пышные симфонии с вокалом и исполнял их в оперных театрах, к великому изумлению великого немецкого композитора Брамса, который никогда не мог до этого додуматься. Лев Толстой, зайдя в театр, когда там давалась вагнеровская вещь, испугался свободно разгуливавшего по сцене картонного дракона с зелеными лампочками вместо глаз и убежал куда глаза глядят, а именно, писать о «Крейцеровой сонате» Бетховена как о первом, робком ростке музыкальной эротики. Ромен Роллан же, ознакомившись с вагнеровскими впечатлениями Толстого, сделал вывод, что Толстой имел право на свое особое мнение, поскольку не любит даже Шекспира, и что, наоборот, это особое мнение Толстого является доказательством того что Вагнер – лучший оперный композитор всех времен. В примечании, однако же, Ромен Роллан оговорился, что лучше бы Вагнер называл свои оперы симфониями, и посоветовал слушать их закрыв глаза. Странные и, заметим, очень связные мысли бродят в головах у великих людей.
29.
Стол накрыт. Волны, заглядываясь на заметную здесь отовсюду Столовую гору, готовятся закусить безрассудным судном, зеленеют от радостного предвкушения, хрипят клочковатой ватной пеной. Тучи царапаются о верхушки мачт, паруса сняты, судно кренится, прижимается к воде, ищет у нее спасения. Люди вцепились в ванты – страшнее всего оказаться смытым за борт, часть матросов в трюме – отливают набравшуюся воду. Ветер хлопает над кораблем огромной хлопушкой.
Такую картину видел Кеес ван дер Вейде, когда он пробирался на мостик по накренившемуся на правый борт кораблю. Капитан оказался в каюте, он удалился сюда, как только вышли из бухты, как будто не хотел помогать кораблю в его борьбе со стихией. Он сидел на койке, привязав себя поясом к брусу. В руке у него была бутылка рома. Ясно было, что он только что из нее пил.
- Кто это? - спросил он, когда отворилась дверь и в каюту хлынули брызги. - А-а... - протянул он, узнав ван дер Вейде. - Плохая сегодня погодка…
- Еще не поздно вернуться, капитан. Зачем только мы вышли из бухты?..
- Так надо, Кеес. Donnerwetter, я побился об заклад, что обогну мыс именно в бурю.
- Из-за какого-то пустячного спора!
- Спор не пустячный, хотя я был очень пьян, когда заключал пари. Знал бы ты, какова моя ставка!
- Но мы все равно не сможем обогнуть мыс, капитан. Дует ост, встречный ветер.
- Поставь брамселя.
Ван дер Вейде дико воззрился на капитана. Отдавать подобный приказ было равносильно команде «Идти ко дну».
- Ну, я пошутил, - пошел на попятную капитан, заметив, какими глазами смотрит на него помощник. - Но мы должны обогнуть мыс, Кеес, придумай что-нибудь.
Но какие бы маневры ни пытался совершить ван дер Вейде, тяжелый, не слушавшийся руля барк каждый раз относило на запад.
Молодой офицер на сей раз послал рапортовать в капитанскую каюту боцмана. На сей раз, кроме самого Фалькенберга, здесь были горбоносый лекарь и – боцман даже не поверил своим глазам – кок-малаец. Эти двое очень странно посмотрели на вошедшего в каюту Дирка.
- Ну, докладывай, Дирк Слоттам, - приказал капитан и сжал
горлышко бутылки так, что рука его задрожала. - Удалось ли нам обогнуть мыс?
- Нет, ветер оказался сильнее нас, - вздохнув, ответил боцман.
- Сколько попыток мы сделали?
- Три, мой капитан. Но всё без толку.
- Три попытки, - в один голос сказали лекарь и кок, и глаза их в полутьме зазеленели рысьим блеском. - Ты проиграл спор, капитан. Теперь корабль наш!
Они встали, воздели руки – и как будто стали расти. Сама каюта стала просторнее, стены ее озарились странным зеленым светом. Лица кока и лекаря, хорошо видные теперь, оказались нарумяненными, как у женщин, брови были подведены, губы алели. Рубины в перстнях на пальцах этих двоих испускали красные лучи, плясавшие по потолку, по стенам, по столу. Такой луч попал на лицо Дирка, и боцман почувствовал: с ним творится что-то странное, по спине бегают мурашки, ноги холодеют.
Капитан, похоже, намеренно напившийся до полного нечеловеческого спокойствия, бесстрастно взирал на эту игру теней.
- А кому из нас достанется капитан? - металлическим голосом спросила фигура, бывшая ранее коком, и вытянула длинный скрюченный указательный палец. - Спорила с ним я.
- Он достанется мне, - выкатила белые шары глаз другая фигура, и Дирк подумал: она напоминает короля Филиппа Второго, только в женском платье. - Сейчас увидишь.
Они стали играть в кости, и при каждом броске судно трещало по швам.
- Да, Смерть, он достался мне, - сказал прообраз Филиппа Второго.
Другая фигура швырнула кости на стол так, что ножка подломилась и все полетело на пол. Только сейчас Дирк понял: шторм прекратился, потому что качки уже не было.
И тут прямо на него устремились рубиновые лучи перстней, и Дирк увидел лица, страшнее которых никогда в жизни не видел.
- Тогда, может быть, этот мой? - со змеиной улыбкой спросила Смерть.
- Нет, его ждет та же участь, что и всех остальных на этом судне. Теперь корабль мой. Навсегда.
И Смерть исчезла, погасла, как фонарь. А вторая фигура обратила свой застывший королевский взор на Дирка.
- Помнишь того испанского купца? - прозвучал вопрос. - Выйди на палубу – там он лежит. Выброси его эа борт.
И фигура исчезла так же, как и другая.
Капитан сидел молча, вперившись в пустоту. Дирк потряс его за плечо.
- Кто это был? - спросил он.
Капитан обратил к нему страшное лицо – все покрывшееся желтыми морщинами, как у столетнего старика.
- Кто с нами сейчас разговаривал? - повторил свой вопрос боцман.
- Это Смерть-при-жизни, - одними губами ответил капитан. - Теперь мы в ее власти. Мы осуждены вечно идти против ветра.
30.
Когда небо запахивает полы своего вечернего халата, и боль, которую несет в себе день, багровым шаром ускользает за горизонт, глаза созвездий смотрят на ночную жизнь сквозь темную пелену несуществования. «Смерть возьмет свое, но она не сможет взять всё», - млечно поет луна, чей свет маскирует бесконечность ночи. Сквозь мглу просачивается сон без сновидений, в котором беззвучно тонет наше прошлое. Наше настояшее зависит от того, проснемся ли мы; что же до нашего будущего, кто может сказать с уверенностью, что оно у него есть? Вот у наших дел иногда бывает будущее, и изредка даже у наших слов...
Такие неясные мысли бродили в голове полупроснувшегося Н., пока наконец звук упавшего с кровати на пол блокнота не разбудил его окончательно.
«Почему в сундуке нет записей?» - размышлял за завтраком Н., память которого проигрывала, как заезженную пластинку, его недавний визит на чердак. Но потом он вспомнил: старые шкиперы не любили делать записей, иногда только денежные подсчеты вели. Приходится до всего додумываться самому. У Вагнера «пытка бессмертием», «скитания», «лишь раз в семь лет разрешено сходить на берег»… Да ведь это не проклятие, а испытание. В чем же может заключаться проклятие?
Н. вспомнил себя и подумал: в вечной неудаче. В том, чтобы тлеть, а не пылать, мерцать, а не сгорать. И ветер распахнул окно и согласно завыл в комнате.
«Да, в невозможности сгореть, в отсутствии кислорода для этого горения, - сказал себе Н. и закрыл окно. - Жить как Эйнштейн среди эскимосов, все время идти против ветра, что сдувает тебя обратно, туда, откуда пришел. И никакая женская любовь тут не поможет, сколько ни бросайся Сента со скалы, в третьем ли акте или хоть в каждой картине. Но есть, есть в этой опере проклятие, и вот оно: "Вокруг судна море неспокойно, у его бортов пенятся волны, тогда как повсюду поверхность моря неподвижна и гладка"».
31.
«Бежать, - решил Дирк. - Шторм стих, можно спустить шлюпку. Ни секунды дольше на этом прóклятом корабле!»
На онемевших, негнущихся ногах он приковылял на палубу. Ослепительно светило солнце. Палуба была пуста, буря смыла все – и шлюпки, и фальшборт, и… людей? Никого, только обрывки парусов чуть трепещут на вантах. И – тело лежит у мачты. Тело того испанца. Мертвое тело.
Дирк подошел, взял труп за ноги, подтащил к борту и бросил в воду.
- До завтра! - сказал, падая, мертвый испанец и скрылся в прозрачной голубой воде.
Дирк почувствовал, что волосы у него на голове встали дыбом. Он осмотрелся. Корабль штилевал в открытом море.
«Я один, - сказал себе Дирк. - Нет, я и капитан».
Потом пришла следующая мысль: может, и остальные где-то на корабле? И он пошел к кают-компании. Еще не дойдя, он услышал веселые голоса и вздохнул с облегчением: обошлось. Вот он открыл дверь. Кают-компания была пуста. Но звенели пивные кружки, звучал разговор. Ван дер Вейде рассказывал какую-то историю, потом все начали ее обсуждать.
- Эй! - заорал боцман. – Хоть кто-нибудь меня слышит?
Но разговор продолжался, и никто не спешил ответить.
Дирк пулей выскочил из кают-компании. Решив, что у него, должно быть, испарина на лбу, он собрался отереть пот шейным платком. Но у него не было платка. У него не было тельняшки, портов, башмаков. У него не было шеи. У него не было тела. Только голос. И еще незримые конечности. Руки, чтобы каждый день сбрасывать с палубы мертвого испанца, ноги, чтобы к нему подойти.
32.
«В сущности, опера начинается там, где кончается легенда. В легенде главное – предыстория, в опере – последствия, самопожертвование Сенты и самого Летучего Голландца, возвышенная любовь и прочее в том же романтическом духе. Единственное, что в опере интересно с точки зрения сюжета – попытка показать конец Летучего Голландца, то есть спасение. Спасение от чего? От непрерывных скитаний по океану, от одиночества. Но неужели спасение от одиночества – лишь в окончательной гибели? Что же делать тогда Летучему Голландцу не оперного, а реального мира? Тому, чья печаль «глубока, как море, по которому он плавает»? Сводить счеты с нежизнью или продолжать ее жить, исследовать глубины неприютного мира – собою? Для нас, сторонних наблюдателей, главное в истории Летучего Голландца, как мы уже говорили, - предыстория, для него же самого – последующее плавание, возможность видеть города и страны, странствоватъ по векам и океанам, быть одиноким и свободным... “Корабль его без якоря и сердце его без надежд”».
Н. сидел на террасе своего странного дома и, вбирая всем объемом легких влагу подступающего дождя, писал, писал…
«Считается, что “Летучий Голландец” – единственная опера на этот сюжет. На самом деле она не единственная. Есть еще одна опера – и она, быть может, в большей мере выражает суть легенды, чем произведение Вагнера. Это “музыкальное действо” Венсана д'Энди “L’Etranger”, то есть “Чужестранец”. Этот самый Чужестранец живет на берегу моря среди французских рыбаков, но составляет с ними разительный контраст: он печален и благороден, готов поделиться уловом с нуждающимися, они же – грубы, злы, подозрительны и потому отвергают его – он для них чужой. Эта жизнь среди недостойных – вот истинное проклятие, более страшное, чем проклятие Летучего Голландца. Одна лишь девушка любит Чужестранца, да и как обойтись без такой хорошей девушки в опере? Иначе, глядишь, и оперы бы не вышло. Но вот Чужестранец открывает свою сущность: "Мое имя? У меня его нет… Я тот, кто мечтает. Я тот, кто любит. Любя бедных и безутешных, мечтая о счастии всех людей, братьев, я прошел через много миров. Я долго плавал и по всем морям…" Стоп. Ибо дальше начинаются чудеса с драгоценными камнями, погружение влюбленных в пучину морскую, иначе говоря, весь арсенал романтических атрибутов. Для нас интересно, что герой не просто странствует, а ищет. “Под знойным солнцем Востока, среди белых полярных океанов” разыскивает две вещи: красоту и любовь. И находит – и тогда погибает. Не потому, что сам не создан для счастья, а поскольку для счастья не создан этот конкретный мир, населенный этими конкретными людьми.
По музыке же лучшая у Венсана д’Энди – самая ненатуральная сцена, когда в море брошен волшебный изумруд, окрашивающий море вплоть до горизонта в “сверхестественный зеленый цвет” и заставляющий воды “бурно вздыматься”. Самые неправдоподобные вещи порою будят фантазию художника…
Обе оперы не так уж часто идут на сцене, хотя “Летучий Голландец”, конечно, чаще. Премьера “Чужестранца” состоялась в Брюсселе седьмого января 1903 года, ровно через шестьдесят лет после первого представления вагнеровекого “Летучего Голландца” в Дрездене, второго января 1843 года. Еще через шестьдесят лет, в 1963 году, окончил полный курс истории музыки в Московской консерватории пишущий эти строки…»
Такие несколько отрывистые записи, как бы staccato, делал в блокноте Н. в тот пронизанный дождем день на одномачтовой своей террасе.
33.
А ночью парус его сна стал полоскаться на ветру времени — и выплеснул ему навстречу пригоршню бутафорского вида снежинок и невысокого человека с несколько выпученными глазами, длинными волосами и мясистым носом. Одет этот человек был в синюю куртку и малиновые брюки, с торопливо заправленными в сапоги брючинами; голову его венчал черный берет. По виду он напоминал продавца или мастерового. Человек куда-то шел и с видимым усилием тащил за собой небольшие сани с книгами. Под полозьями саней был то снег, а то и асфальт проглядывал, поэтому сани время от времени издавали ужасающий скрежет. Н. оказался у человека в берете на пути, так что обоим пришлось остановился. Н. стал вглядываться в его лицо.
Разрешите представиться, Вильгельм Рихард Гайер, - нехотя сказал человек и поднес руку к берету.
Наверное, на лице Н. изобразилось неверие, потому что прохожий поморщился, отчего на его мясистом носу появились складки, и процедил сквозь зубы:
Ну, хорошо, хорошо, я Вагнер. Хотя в юности я носил фамилию Гайер. Мой «Летучий голландец» оказался пророческим — в том смысле, что даже после смерти все на меня глазеют и не дают мне покоя!
Простите, не хотел вас тревожить, - вежливо отозвался Н. - Хотя эта самая опера меня очень интересует.
Она многих интересует с тех пор, как была написана, - гордо сказал человек в берете. - Даже тех, кто меня ненавидит. Представьте себе, многих художников ненавидят. Как ненавидели Моцарта! И Гогена! Да и ваших Пушкина и Шостаковича... Собственно, так оно и должно быть: вы будете меня ненавидеть, но музыку мою вы будете слушать, и книги читать, и репродукции картин над кроватью повесите! Вы хотите знать почему? - продолжал он, хотя Н. его ни о чем не спрашивал. - Потому что каждый из нас выиграл свою битву, и теперь мы по другую сторону времени. Мне нравятся победители, но я не люблю войну. Я ненавидел Бисмарка, с его упрямством и воинственностью, но я начал его любить, когда он стал единственной надеждой немецкого народа.
Вообще-то некоторые люди выражают сомнения по поводу вашего мировоззрения, - осторожно проговорил Н.
Да, я терпеть не мог евреев, - просто ответил Вагнер, поправляя воротник своей куртки. - Но неужели вы думаете, что я больше любил немцев? Мы обуржуазились и смешались с латинскими народами, отсюда склонность к лени и разврату... Некоторые люди! - вдруг с силой сказал он. - Если б вы видели людей, которые меня ненавидят, вы стали бы меня больше любить!
В нынешнем веке вашу музыку пропагандировали не самые приятные личности.
Знаю, знаю, меня любили фашисты. Ну, и что же? Фашизм - это вопрос терминологии или, если хотите, веры. Они верили в то, что надо убивать, но они не понимали, что культурная ассимиляция евреев дала бы тот же самый эффект, без всяких жертв. Вы знаете, что они в 1939 году запретили мой «Парсифаль» — как пацифистское произведение? Так что я не фашист, я немецкий националист. А что они мою музыку любили, это хорошо. Даже у них, у этих мелких лавочников, мои оперы пробуждали любовь к великому.
К великому, как его представляют себе лавочники, - не удержался Н.
Великое есть великое, - строго сказал Вагнер. - И чтобы создавать великие вещи, нужен гигантский труд. Вот видите, сколько мне книг пришлось прочитать, чтобы написать «Голландца»! А если о «Нибелунгах» говорить, тут уже будут не сани, а много, много больше. Теперь вот потихоньку отвожу все эти книги в макулатуру сдавать — уничтожаю, так сказать, промежуточное звено. В искусстве всегда важно это звено вовремя уничтожить. Черновики и дневниковые записи, например... Я вот не все успел сжечь, о чем теперь жалею...
Н. почти автоматически взял в руки верхнюю из лежавших на санях книг, тяжелый том в зеленом кожаном переплете, на котором не было видно никакого названия. Это оказался роман капитана Мариэтта «Корабль-призрак».
34.
- Там есть колодец, куда когда-то бросили монахиню, - рассказывал Порождественский. - А еще там есть тень без деревьев и церковь без крыши.
Любого из этих доводов было достаточно, чтобы Н. захотел в это самое «там» попасть.
- И я с вами, - сказал Порождественский. - Добираться можно на велосипедах или на байдарке; последнее, конечно, намного проще и быстрее.
Однако Н. никогда не сидел в байдарке, да к тому же вспомнил песенку, когда-то слышанную у туристского костра под аккомпанемент фальшивой гитары:
Не садись в одно каноэ,
Коль не пара вы, а двое.
«Пары из нас с этим человеком, действительно, не получится, - констатировал Н. - Но это неважно, потому что ничто уже не важно».
- На велосипеде я бы съездил, - вяло отозвался он.
Порождественский прикатил два велосипеда. Один был английский, Данлоп, другой ржаво-отечественный. Порождественский на Данлопе смотрелся как лорд Астор, объезжающий свои заморские владения.
Бок о бок крутя педали, они добирались до места больше часа.
В церкви без крыши жило молчание – в виде безмолвных случайных слов, нарисованных углем и краской на стенах, и само по себе, неким сгустком тишины и покоя.
- Надо бы приехать сюда, порисовать, - сказал Порождественский. - Правда, лето кончается…
Колодца они не нашли, тень же была, но всегда не сама по себе, а от деревьев. Они вышли на берег, положили велосипеды на песок. Порождественский лег загорать.
- Пойду еще погляжу на церковь, - сказал Н..
Тишина поглотила его сразу, как будто пролилась откуда-то сверху. Идти не хотелось никуда; казалось, он уже пришел в конечную точку…
Потом он заметил небольшую дверцу в боковом приделе. Она держалась на одной петле, и Н. вышел через нее. На пороге в глаза ему блеснуло солнце, ослепило. Н. зажмурился, сделал несколько шагов и попал в тень. Тень была какой-то особенно густой. Вокруг росла малина, он сорвал несколько ягод, положил их на левую ладонь и проглотил все вместе, ощутив сладость и терпкость, а затем одну терпкость. Потом он лег на траву, свернул свою брезентовую куртку и подложил ее под голову. Небо над головой развернуло слои перистых облаков, за которыми оказалось не солнце, а теплый свет дневного сна.
Во сне он тоже собирал малину. Вот он потянулся еще за одной, особенно крупной ягодой, переступил поближе – и вдруг провалился в яму. Падая, он ударился головой обо что-то деревянное, перед глазами все померкло… Н. сидел на чем-то мягком. Было темно, ужасно болела нога, он захотел приподняться, но не смог. Постепенно глаза его стали различать вокруг бревна сруба. Н. понял, что провалился в тот самый колодец.
Где-то в вышине голубело небо, внизу же оказалось темно и сухо – воды в колодце не было. Н. лежал на подушке из мха.
«Повезло, - сказал он себе, - мог бы разбиться. Да, это тот самый колодец, а наверху была тень без деревьев – после того, как он вышел из церкви. Понадобилась мне та малина… Что же дальше? Порождественский вытащить меня не сможет – нужна веревка. Позовет ли он на помощь или бросит ли меня здесь?»
Тогда Н. начал кричать. Голос звучал здесь странно, слова как будто разбивались на отдельные слоги и кружились вокруг его головы. Никто не появлялся. Н. кричал долго, ненадолго переставая, пока совсем не охрип.
Стало темнеть.
«Порождественский, наверное, уехал, - соображал Н., - должно быть, решил, что я заблудился в лесу. Велосипед мой, скорее всего, спрятал в кустах. Придется ждать до утра».
Нога болела невыносимо. В темноте стали высвечиваться звезды и заглядывать ему в глаза. И тогда Н. понял, что он здесь не один.
- Ну, и за кем из нас раньше придут? - раздался тихий голос у самого его уха.
Н. вздрогнул и стал водить рукой взад и вперед, однако никого не нащупал. Вблизи раздался смех.
Ему стало не по себе. Голос был женский, но не вполне отчетливый.
- Обычно я коротаю ночь одна, - услышал Н. – Но не всегда. Я любима и люблю!
Н. с некоторой завистью вздохнул и спросил:
- Когда же за тобой придут?
- Когда лучи солнца упадут в этот колодец. Но здесь всегда тень, даже зимой.
- Тень без деревьев, - отозвался Н.
- Как ты сказал?
- Тень есть, а деревьев вокруг нет.
- Да, тень, на земле много тени, и в душах много…
Все погрузилось в молчание, за ним, наверное, последовал сон, а вернее, сон во сне и пробуждение в том же сне, потому что следующее, что заметил Н., было небо в квадрате над его головой, которое вдруг снова голубело. В колодце мелькнул солнечный зайчик.
- О-о, за мной пришли! – послышалось вблизи, хотя рядом никого не было.
Какой-то силуэт угадывался наверху; щеки Н. коснулся легкий ветерок.
- Прощай! – прозвучало уже сверху.
«А когда же за мной придут?» – грустно думал Н.
И тут же за ним пришли: в проеме колодца показалось хорошо знакомое лицо. Отец. Наклонился над колодцем, смотрит поверх очков:
- Ты зачем дал себя в яму посадить? Я в тебе разочарован. Надеюсь, выберешься сам? Жду тебя к ужину.
И исчез. Так-таки и ушел.
Потом еще одно лицо заглянуло в колодец, бледное и напомаженное. Мать.
- Ага, вот ты где! Опять за свои причуды взялся! Пока не образумишься, домой не являйся.
И лицо исчезло. Сменилось пустотой, а потом очередным лицом – на этот раз очень молодым. Длинные волосы свисают в колодец... Вера, любимая девушка его юности. Он почти и забыл, как она выглядит...
- Так я и знала! Ну что, теперь видишь, что ты неудачник? Мне уже все равно, можешь пропадать...
И тоже удалилась.
«Я думал, она ко мне хорошо относилась, - грустно размышлял Н. – Впрочем, в те времена я, наверное, в людях не разбирался… И родители какие-то другие. Я их такими не помню, они всегда были добры ко мне… Но люди меняют свое отношение, государство тоже меняет свое отношение, надо быть ко всему этому готовым... Какое же следующее лицо принесет ветерок?»
Но никакого лица не воспоследовало. Ветерок крепчал, превращался в ураган, трепал его плечи, убеждал:
- Да проснитесь же вы наконец! Вот горазд спать человек!
Порождественский тряс его за плечи. Н. приподнялся и понял, что отлежал ногу. Порождественский нависал над ним всей своей громадой в меру упитанного английского джентльмена. Ну-ка, какой у этого человека взгляд, есть ли в нем хоть какое-то участие? Но нет, этот взгляд – тоже тень без деревьев, церковь без крыши и свет без тепла…
Тепло разливалось сверху, и красные ягоды малины благодарно улыбались солнцу.
35.
«Если ты спишь, спи с открытыми глазами, если сидишь, сиди на земле, если идешь, иди там, где не ходит Смерть». Эту надпись на немецком языке Н. обнаружил, рассматривая лаковую шкатулку. Немцы всегда любили восточную мудрость, Гете, со своим «Западно-Восточным диваном», здесь не исключение. Советы, кстати, хороши, но где не ходит Смерть? Есть ли такое место?
Есть. Корабль Летучего Голландца. Смерти туда вход запрещен. Его обитатели живут в другом мире, где нет Смерти. В другом измерении…
Н. еще раз открыл шкатулку, подержал в руке удобно легший в ладонь пистолет. «Тяга к оружию, верно, у меня от отца», - сказал себе Н. Его отец, пехотный офицер, давно умер – пройдя всю войну, он нелепо погиб в начале 70-х на Ладоге: его парусная лодка в шторм перевернулась. Через несколько лет умерла и мать.
«Не вышел из отца непотопляемый Летучий Голландец...»
Н. взял в руки подзорную трубу и подошел с нею к окну чердака. О бинокле или подзорной трубе он мечтал с детства, разглядывал их в витринах комиссионных магазинов, но ему так ничего и не купили – списав это его желание на ребячество и баловство.
В окне чердака рисовался картиной лесистый берег, верхушки сосен пушистили свой зеленый ковер. Вот дальняя деревня на другом берегу, вот серая неторопливая вода и пергаментные полосы берегового песка, вот – совсем далеко – старица, прежнее русло реки, вот заливные луга, вот – за ними – турбаза. А если смотреть в другую сторону?
Опять лес, опять сосновый ковер, а вот сельский магазинчик, где он покупал еду, и другое здание неподалеку, красное, кирпичное, с большими прямоугольными окнами. Окна растворены, и в одном из них…
Тут Н. вздрогнул и выронил подзорную трубу. В том окне виднелея человек в серой рубашке, с большим полевым биноклем у глаз, и смотрел этот человек прямо на него.
У младшего сержанта Сафонова как раз было время обхода, и он совершал его, не покидая родного здания милиции, с помощью отцовского трофейного бинокля. В этот час сержант как раз производил наблюдение за подозрительным домом у уреза воды.
36.
Н. разделся, встал в корыто и вылил на себя ведро холодной воды. Дыхание перехватило, но ощущение взгляда на коже оставалось. Взгляд не смывался, он был липким и приторно-сладким, как повидло в залежавшемся пирожке. Н. взял мочалку и стал ожесточенно тереть кожу.
C тех пор он сидел только на террасе, обращенной по отношению к человеку с биноклем в другую сторону, к воде, а во всех комнатах, выходящих на лицевой фасад, задернул занавески. Во всех комнатах, что были ему доступны, другие же комнаты жили своей жизнью, очень тихо, скромно, не мешая ничему. Н. проверил: человеку, наблюдавшему за ним, виден был только чердак, но это его не очень обрадовало: ощущение поднадзорности не проходило. Как будто город сюда пришел. Вот оно, «царство зимних вьюг»! Не за этим он сюда приехал; наоборот, чтобы остаться незримым. Но можно ли быть живым и одновременно невидимым в стране соглядатаев?
«Не пора ли куда-нибудь уехать?» - задал себе Н. вечный вопрос беглецов.
Но дом уже проглотил его без остатка, здесь было хорошо и спокойно, да и куда спрячешься? И он глубже зарылся в тишину дома.
37.
Колодец смотрел единственным глазом, зеленым, как хвоя срубленной под Новый год елки, с мутно-облачной поволокой. Вода была холодной и, как всегда, пахла ржавчиной. Покрутив рукоятку ворота и достав ведро, Н. жадно пил зелень хвои и мутные облака, но они не иссякали, в ведре их оставалось много.
А потом он заглянул в колодец. Сруб был темным, кое-где проглядывал мох. Вдруг между хвоей и облаками просунулось лицо, вернее, этакая гримаска, пошловато-ванильная, и у нее отыскался рот, и отверзся, и сказал одними губами:
- Иди в воду спать.
И хвоя с облаками выжидательно сморщились.
«Заманчиво, - признал Н. - Но усмешка очень уж неприятная, знающая о тебе только плохое, нет, не так, только “ничто человеческое”, которое не чуждо… А если перевернуть? Выйдет "человеческое ничто". Вот кто зовет. Не то ничто, которое суть небытие, а то, что в тебе серое, цвета облаков!»
«Не дамся!» - закусил губу Н. и швырнул в уютную ухмылку звонким цинковым ведром.
38.
Смерть – эмигрантка с легким багажом, с рыжим кожаным чемоданчиком, в котором не коса, а клепсидра или песочные часы. Смерть везде чужая, но ее не вышлешь за пределы страны. Ее понимают все: она говорит на языке поступков, что входит в одну языковую группу с раскатами грома и землетрясениями. Смерть не знает сомнений, и это единственное, что отличает ее от людей, потому что в остальном она вполне очеловечилась, или скорее, она хочет думать, что очеловечилась. В то же время человеческое в ней – это всего лишь пустая человеческая оболочка, и внутренняя пустота смерти неотвратимо засасывает все и вся. Прислушайтесь – и вы услышите в ночи шипящий сельтерский звук – это ее голос.
Н. устал от звуков небытия и накрыл голову одеялом, чтобы не слышать ничего. Пришел сон – и во сне этом Н. прогуливался по вычитанным в романах лондонским улицам: сон русского человека, у которого ноги связаны колючей проволокой границ. У Ковент-Гарденского рынка какой-то подозрительного вида нищий продал ему билет в соседний театр и даже угостил понюшкой табаку.
В билете значилось: «Гамлет. Трагедия "Уильям Шекспир"». Подивившись забавной опечатке, Н. пробрался в ложу, уселся в обшитое красным бархатом кресло и стал разглядывать полутемный партер. Там происходило какое-то шевеление, зрители занимали места, переговаривались между собой, смеялись.
Наконец зажглись свечи. Тут Н. заметил: на зрителях были какие-то фантастические костюмы – римские тоги, венецианские камзолы и даже рыцарские латы. Да и дамы были одеты не менее причудливо.
Внезапно разговор стих. В соседней ложе появился человек в длинном черном плаще, с суровым и неулыбчивым лицом, кого-то Н. очень напоминавшим.
- Автор! Автор! – зашелестели в партере.
Тут Н. вообще перестал понимать, куда он попал и что это была за пьеса. «Я всегда в зрительном зале, - думал он меланхолично, - на сцене обычно другие…»
Человек в черном плаще поклонился публике и повелительно поднял руку. Шум стих.
Заиграли фанфары, занавес поднялся – и открылись декорации средневекового английского городка. В первой сцене изображалось рождение малыша в семье зажиточного перчаточника, во второй – его детство. Действие происходило в городке Стратфорд-на-Эйвоне, и Н. наконец уверился, что пьеса действительно из жизни Шекспира.
Вот дело дошло до написания сонетов, а затем пьес, вот на сцене уже пошел 1600 год, когда и была создана трагедия «Гамлет».
Заинтригованный Н. попытался представить себе, что будет дальше, но никакого «дальше» уже не предвиделось, потому что королева попросила Шекспира рассказать историю своей жизни. Свет на мгновение погас, затем вновь зажегся, и пьеса начала разыгрываться с самого начала.
«Ну, конечно, - сообразил Н., - если автор пьесы Гамлет, он не может знать, что происходило с Шекспиром после того, как тот написал трагедию о нем самом: он ведь стал персонажем и существовал отныне вне сознания автора».
Так пьеса разыгрывалась три раза, и вскоре начался бы уже четвертый, когда Н. понял: надо что-то делать, иначе он сойдет с ума.
Он схватил стул и бросил его на сцену. Бесконечное представление прервалось. Зажегся яркий свет и вся публика в партере уставилась на Н..
Кого там только не было! Просперо и Меркуцио, Джульетта и Офелия, Фальстаф и Макдуф... Даже осел из «Сна в летнюю ночь» сидел в кресле. Н. многих распознал, другие были ему незнакомы, хотя он считал, что хорошо знает Шекспира. Однако сейчас все эти лица, обращенные ко нему, выражали только лишь негодование, как будто спрашивали: «Как этот человек пробрался сюда, зачем он подглядывает за нами? И что нам с ним делать?»
Просперо выступил вперед, спросил:
- Ты персонаж или живой человек? Только не лги нам!
- Я персонаж, - с некоторым сомнением сказал Н. – Моя книга – это Книга Жизни.
Только он произнес эти слова, все исчезло. Н. оказался на улице под дождем. Неподалеку подсчитывал гроши уже знакомый ему нищий.
- Ну как, сэр, получили удовольствие? – ухмыльнувшись, спросил тот издали. – А теперь идите за мной, вас тоже ждет роль, и, кроме вас, ее играть некому.
Оставив под аркой свой рваный черный плащ, нищий ступил в глубь прохода. Н. последовал за ним – и вышел из кварталов сна, вернувшись в реальность с другого, смутно ощутимого ее конца.
39.
«Рядом нет ни людей, ни книг...» Как хорошо ложатся эти слова Малера на мотив какой-нибудь народной песни! Попутной песни…
Н., отправившийся с утра бродить, куда глаза глядят, взбирался на холмы и сидел на пнях, слушал лягушек и тощих коров, думал о стадности и кучности. Брючины его вымокли от росы, в них вцепились колючки, но он ничего не замечал, когда накапливалась усталость, он спал в тени на сухих пригорках, потом шел дальше. В нем пела сладкая тоска, что жила в нем постоянно, как шум моря в ракушке. «Все могло быть хорошо, все могло еще бытъ», - вторила ей синичка в чьем-то заброшенном саду. Там росла яблоня, полудикая, он надкусил терпкое яблоко. Яблоки, укроп, салатные листья, немного красной смородины… Н. вспомнил куст белой смородины, что рос в городе под его окном. Каждый год пятого августа он собирал «урожай» и подавал на стол – в день рождения… не надо вспоминать, кого. Белую смородину не рвали – принимали, наверное, за волчьи ягоды, а ведь людей под окнами ходило много… Пить не хотелось, хотелось спать, но Н. не был уверен, что он не спит, что эта прогулка – наяву.
Он снова вышел на высокий берег, теперь уже далеко от дома. Внизу, на песке, загорали и играли в карты какие-то люди. Кто-то плыл на байдарках, два узких суденышка соревновались в скорости, слышен был женский смех, равномерно работали весла. День уже вступил в свои права, припекало полуденное солнце, кузнечики завели свою велосипедную песню.
«Жизнь идет, несмотря ни на что, читаются газеты, включается телевизор, люди спортом занимаются и находят, чем дышать, им не тесно в городе… Как это может быть? Мне самому не было тесно в городе… или все-таки было? Наверное, им там тоже тесно, поэтому они здесь, со своими транзисторами и песнями, принесли сюда город, заставили звучать. Расскажите мне о тишине! Что там было у Малера в первой симфонии… природа и "почтеннейшая публика" на природе... Звери хоронят охотника, звуки хоронят тишину…»
Не дойдя до турбазы, Н. повернул назад.
40.
Нет книг? Но ведь так не бывает! И дом в доказательство тому вывернул изнанку старинного комода, в котором хоронилась – нет, не книга, но потрепанная тетрадка толстого журнала, с выдранными страницами и без переплета. Кажется, «Иностранная литература». Без летнего чтения все же не обойдешься...
Н. устроился на облитой закатным солнцем скамейке в саду, раскрыл журнал на середине и стал читать рассказ, перевод с… Часть страницы была оторвана. В рассказе описывалось горное озеро, в котором некоторым странным образом отражался глаз Бога, и глазу этому было открыто всё...
«М-да, прикладная теология в действии, - бессонно ворочался в постели Н. - Но глаз – он действительно за нами смотрит, не смыкая век, и мы никогда даже не знаем, чей это глаз...»
И он инстинктивно накрыл голову одеялом.
41.
Вечером следующего дня пришел незнакомый рыбак, поднялся по деревянной лесенке прямо на террасу и вручил ему большой кусок пирога с запеченным сазаном.
- Я тут рыбачу неподалеку, - сказал он, смущенно улыбнувшись, и морщины на его узком небритом лице разгладились. - Смотрю, у вас каждой раз за полночь свет. Видно: работает человек, себя не жалеет, как не угостить! Это жена печет... Вы уж примите – как капитан корабля от другого капитана…
Н. сразу отломил кусочек. Рыба оказалось мягкой и удивительно вкусной. Н. не знал даже, как благодарить рыбака.
Попрощавшись, рыбак спустился по лесенке, отвязал лодку и поплыл дальше – его работа была ночной и утренней. Н. чувствовал, как тепло разливается у него в груди. Он еще долго смотрел рыбаку вслед.
«Как капитан корабля, - звучали у него в голове слова. - Капитан… А ведь корабль – я сам. На редкость бездарно я судном этим управляю…»
42.
А ночью – беззвучный голос в комнате, голос из того времени, которого не было: «Помнишь, как я лежал на асфальте?»
Нет, не помнит, не должен помнить, и чердак он не помнит; помнит лицо, женское лицо, красивое и ассиметричное, где всё вразлет, глаза и брови, любимое лицо – ведь нельзя не помнить, это все равно что не помнить себя, но ничего из того, что было, не помнит. И не сметь вспоминать!
Но фигура, лежащая навзничь на асфальте, не хочет уходить из памяти.
И тогда следует ответ, ключ к спасению: «Это было не со мной». Да, так и думать: это было не со мной. Это было…
Часть 2
Allegro. Adagio. Allegro
1.
Выпавшего из окна человека зачем-то обводят мелом. Остаются контуры, напоминающие самолет. Самолет, который никогда не взлетит.
Когда я прибежал – троллейбуса долго не было – Бету уже увезли, и я так и не увидел, как она лежит на асфальте – судя по меловому самолету, в такой позе, будто она спит. Она так и спала – на боку, вытянув далеко вперед одну руку и устроив на ней голову. Может быть, в такой позе ей было легче разрезáть воды сна. В этой как бы целеустремленной позе… Бета, Бета!.. Почему в глазах так темно?
От зевак я узнал, что Бету повезли в морг. Где же Гамаюнов? Наверное, поехал с ней. Бета плюс Гамма… Сочетание, которого не было в жизни. Труп вообще хорошо сочетается с любым живым человеком. Во всяком случае, протестовать он – труп – не будет.
Троллейбус, лица, лица, лица, сумки с продуктами на полу, на коленях, движение куда-то – в этом ли направлении указывала Бетина рука? Но я знал, куда еду – к ней. Потому что я еще нужен ей, пустъ даже ее и нет…
2.
Морг. Разбитый кафельный пол, кафельные же стены и – запах. Жду стоя – заставить себя присесть не могу. Но уже и стоять на одном месте не могу, хожу кругами. Откуда-то – Гамаюнов. Теперь – Гамма плюс Альфа. Это сочетание было, дружеское ли, безразличное ли, но было.
- Извини, не удержал... - это он говорит, спокойно так… о чем? - Сидела на подоконнике, засмеялась, отклонилась назад…
Это он – О НЕЙ?! Вот так?! ЗАСМЕЯЛАСЬ! Смех ценою в жизнь. Но ведь он, Гамма, тоже знал, как она смеялась – запрокидывалась назад и рассыпáлась на бусинки смеха. Знал и рассмешил – ее, сидевшую на подоконнике! Случайно, он говорит, случайно. Что там мы в детстве говорили по поводу «случайно»?..
Зовут в зал. Скрипит железный шкаф. Белая простыня, и под нею… Рука уже не торчит. Да, не торчит – она скобкой охватила голову. Так она тоже спала, Бета… Бета спит. Проснись, Бета! Она как живая. Она живая!!! Нет, затылок разбит. Ей больно. Обнять ее… Больше ничего не помню…
3.
Нет, помню – как я несу к урне найденные три рубля. Трешка зеленая и соблазнительно хрустит. Надо успеть дойти до урны. Я бы побежал, но я слишком мал, чтобы бежать. Я просто быстро переставляю ноги.
Погоня уже настигает. Бабушка тоже слышала приятный зеленый шелест.
- Три рубля! – тихо кричит она. – Это же деньги! Стой!
Я быстро иду к урне. Бабушка тоже быстро идет: бежать неудобно – кругом люди. Но вечером в парке их мало. Никто не смотрит, как я совершаю первый свой подвиг. Бабушка догоняет, расстояние неумолимо сокращается, но вот она, урна! И, как баскетболист в корзину, я укладываю зеленую бумажку точно в цель – в черное отверстие.
- Ах, поганец! - в сердцах говорит бабушка и достает, достает деньги из урны.
Я внутренне улыбаюсь, как буду часто улыбаться, когда вырасту. И вот меня, как пойманного преступника, ведут по аллее кисловодского парка…
4.
Нет не по аллее, по Пироговской улице к метро. На карнизах серых сталинских казармодомов беснуются голуби. Это Гамма меня ведет. Гамма плюс Альфа. А Бета… Ох, Бета!..
Я останавливаюсь, меня трясет.
И мы идем. В Новодевичъем бьет колокол… или мне показалось? Никогда не спрашивай... И так ясно, что по тебе…
Дома – Бетины вещи, белье... Господи!
И ведь всего за три года так привык, вжился, хотя и жила она не здесь, бывала наездами… Я, я лежал там, где был меловой самолет, и он унес нас обоих. Вбил в асфальт.
5.
Милиция. «У нас есть сведения, что ваши тексты…» - «Какие тексты?» Изобразить изумление. Знаю, знаю, какие тексты, но и они тоже знают… Пусть! Главное – не признаваться. Как шпиону из детской книжки. Виноват, как доблестному советскому разведчику. М-да, шпиону... Для них говорить, что думаешь, - все равно что быть шпионом. Видели бы они, как мы поздно вечером раскладывали по почтовым ящикам листовки во времена чешских событий! Если кто-то входит в парадное, поднимаешься на один этаж выше и ждешь, стараешься не дышать, пока не уехал лифт, потом спускаешъся и продолжаешь. Как шпион… Главное – не признаваться. КПЗ, решетки на окнах. Хорошо хоть, у меня сапоги не на шнуровке, иначе и шнурки бы забрали. К решетке с другой стороны привязывает собаку – огромную овчарку, больше меня. Дразнят ее, потом: «Не хочешь посидеть с ней?» Молчу. Сердце колотится. Пугают. В протокол я вписал все то, что было умышлено пропущено. Только потом подписал. Кажется, потом то же советовал в своей памятке диссидент Есенин-Вольпин, сын поэта Есенина. Следователь взбеленился, поэтому и собакой пугали. Все равно ничего не докажут!
- Как давно вы знали Елизавету Осипцеву?
Ах, да, это уже не тогда, это сейчас. «Елизавету…» Я никогда ее так не звал, даже забыл, что она Елизавета.
Милиционер тем временем листает страницы в деле.
- Ах да, здесь записано, три года… - говорит он. - А что вас связывало?
Молчу, смотрю на милиционера. Красивое грубое лицо, красное, с бачками. Такой не понимает психологических тонкостей. Тогда, больше десяти лет назад, был другой, бледный и въедливый очкарик, похожий на ученика-отличника. «Вы ведь нам не сочувствуете?» Что тут ответишь? Я сказал: «Наверное, вы сами понимаете».
Краснорожий решает конкретизировать свой вопрос:
- Говорят, она вам была почти жена.
Почти! Она была больше, чем жена, она была половиной меня, причем лучшей половиной. Но я отвечаю:
- Мы хотели пожениться.
Милиционера это устраивает: готовая формула. Наверное, так и следует отвечать – готовыми формулами, клише. Если бы только каждый вопрос не порождал во мне внутренних диалогов!..
Спрашивает про Гамаюнова. Ну, что я могу сказать – школьный приятель Гарик Гамаюнов по прозвищу Га-га. Это позже, уже в старших классах, Бета придумала нас с ней называть Альфа и Бета, Гарик же – пришлось к слову – получил имя Гамма. Замечательно умел списывать, сдувал у Беты всё по естественным предметам, у меня – по математике и по физике. И, главное, с ним было легко, даже лицо у него было улыбчивое, круглое как блин, борода не росла.
- Значит, школьный приятель? Весельчак? А с вашей невестой у него ничего не было?
Я так возмущен, что милиционер извиняется:
- Я хотел сказать, совместной работы, например…
Совместная работа была, вернее, хобби: Бета преподавала в училище имени Гнесиных, а порою приходила играть на скрипке в любительском оркестре Дома Ученых. Иногда в том же оркестре играл и я – на фортепиано, которое изредка используется как оркестровый инструмент. Гарик же, с трудом окончивший музыкальную школу по классу баяна, неожиданно для нас виртуозно освоил игру на треугольнике – есть такой странный оркестровый инструмент в виде согнутого стального прутика, который подвешивают и бьют по нему металлическим стерженьком. Можно ли это считать совместной работой, когда Бета сидит в первых скрипках, рядом с концертмейстером, а Гамма – где-то позади, и между ними много людей? Впрочем, они делают одно дело, и я тоже делаю то, имя чему – рождение музыки.
- Мы все втроем играли в любительском оркестре, - говорю я.
- Да, понятно, дуэт там не сыграешь, - глубокомысленно замечает милиционер. – Ну да ладно, если что-нибудь вспомните – позвонѝте».
И дает мне визитную карточку: «Следователь Волов». Фамилия-палиндром, вполне обтекаемая как прямым, так и обратным течением.
6.
Прихожу домой и снова хожу кругами. Что-то меня тревожит, что-то не так. И я сам не могу понять, что. Какую-то фразу Бета мне сказала незадолго до смерти. Какую-то фразу… Нет, не помню.
Мебель у меня в комнате стоит по периметру. Когда-то я придумал при игре в «морской бой» ставить корабли по краям – и у всех выигрывал: больше оставалось пустого пространства. Четырехклеточный корабль в моей комнате – кровать, трехклеточные – шкаф, пианино и письменный стол, двухклеточные – книжные шкафы, одноклеточные – стулья. С кем мне сыграть в «морской бой», квартира на квартиру, чтобы предметы выламывались из моей жизни? В моей жизни много предметов и мало людей. А теперь… Но не думать, не думать об этом «теперь», и о Бете не думать, иначе разум мой не выдержит… Что же все-таки она сказала?
7.
Я не хочу жить. Но как это сделать – не жить? Я подхожу к окну. Как нарочно, этаж у меня первый. Если бы это было то самое окно! Что еще можно сделать, чтобы не жить? Какие у меня есть лекарства?..
Раскопки в коробочке с лекарствами прерывает пронзительно-наглый телефонный звонок. Опять забыл отсоединить провод…
В трубке звучное:
- Ало-о!
Это Васса, старая флейтистка из нашего оркестра. Дама с гримасой как на рекламе западного слабителъного, шутила Бета. Эту гримасу, растягивающую накрашенные губы, Васса, очевидно, считает улыбкой. Конечно, она человек мне малосимпатичный, но я занимаюсь с ее мальчиком, учу его играть на фортепиано: сама Васса – любительница, она не может. Но сейчас она не по поводу мальчика.
Соболезнует, хочет узнать подробности. Противная старая сплетница в кошачьей шали. Нет, никаких подробностей она от меня не дождется.
- А вы уверены, что там нет какого-нибудь подвоха?
Что она имеет в виду?
- Ну, что это несчастный случай. Все ли вы знаете? Может быть, это не случайность?
Адресую ее к любимому ее собеседнику – Гамаюнову. Как-никак, он при этом был. При этом…
Волна боли ударяет мне в сердпе, как в борт суденышка, и я теряю нить разговора.
- Ничего, не переживайте, - говорит Васса.
Ничего себе не переживайте! Я в возмущении кладу трубку и хожу, хожу по комнате. «Не случайность»! Что же, Бета сама выпрыгнула? Глупости! Такого быть не могло. Только не она…
8.
Во сне приходит Бета – с собакой, как тогда. Мы все идем гулять в лес, в весенний лес трехлетней давности, и Бета садится на пригорок, между желтыми огоньками мать-и-мачехи. Собака – это большой, добродушный, немного дурашливый эрдель-терьер, почему-то похожий на одного моего питерского знакомого, поэта Женю Рейна, - прыгает на Бету, и она, смеясь, валится навзничь, блузка ее задирается, обнажив белую полоску живота. Как я любил ее тогда! Но ничего не сказал, молчал – потому что не надо было говорить, потому что еще не говорилось, но – подразумевалось.
Потом мы идем с Бетой домой – и не можем вернуться. «Где наш дом, Бета?» Но нет, нет нашего дома, и мы дотемна ходим по городу, а потом наступает тьма, и вот я уже не вижу Бету. «Бета!» - кричу я.
Нет, шепчу, потому что я уже проснулся. Вокруг темно и холодно. Полная тьма. Во тьме я всегда боялся смерти – что-то накатывало, и я ощущал отсутствие меня. Это было настолько страшно, что я тотчас включал свет и пытался отвлечься. Сейчас во тьме я понял, что не боюсь смерти, что я хочу умереть и властен сотворить что-нибудь над собой в любую минуту. Как ни странно, это принесло мне облегчение: насколько проще не бояться небытия!
С этой мыслью я снова куда-то проваливаюсь.
Теперь Бета играет мне на скрипке, Брамс, «Скерцо». Быстрое и тревожное «та-та-та-таам» – почти как у Бетховена в Пятой симфонии. «Та-та-та-таам» – и скрипичный голос взволнованно рассказывает мне о чем-то.
Я просыпаюсь и удерживаю в памяти самый хвостик от этого сна – Бета, опускающая скрипку, и «та-та-та-таам». Да, она ведь говорила мне что-то о скрипке. Что?
Вспоминаю: советовалась со мною – что делать со вторым инструментом. Дело в том. что год назад умерла Бетина мать, тоже скрипачка – сгорела от рака, - и Бете осталась еще одна скрипка. Оба инструмента были итальянскими, не фабричными, а приличных мастеров, хотя и не самых лучших, и потому стоили немало. Бета привыкла к своему инструменту и на другом не играла. Как-то она взяла в руки другую скрипку, настроила ее, заиграла прелюдию Баха – и вдруг оборвала, чуть ли не бросила скрипку на диван и зарыдала – вспомнила мать. Бета ее любила; она была воплощением маминой мечты, прекрасной скрипачкой, хотя и не стала солисткой. Однажды Бета с матерью исполняли для меня двойной ре-минорный концерт Баха. Бета, конечно, играла первую скрипку, и мать очень гордилась чистым ее звуком.
Я тогда сказал Бете: пока нам ведь не нужны деньги, вот если поженимся и захотим поехать в свадебное путешествие – тогда, может быть, и продадим. Бета рассмеялась, и мы больше об этом не говорили.
9.
Просыпаюсь. Утро. Надрывается телефон. Звонит тетя Маня, Бетина тетя. Похороны послезавтра. Знаю ли я, что в Бетиной квартире на пианино лежит мой паспорт?
Не знаю, не хочу ничего знать. Тетя Маня настаивает – она бухгалтер, она пунктуальная: человек должен иметь при себе свой документ, солнце должно восходить на востоке, в троллейбусе надо платить за билет. Если когда-нибудь она забудет заплатить и ее оштрафуют, она, наверное, сойдет с ума. Слава Богу, Бета была другая. Была... Тут я перестаю воспринимать что-либо...
Тетя Маня не отстает: сходим сегодня к Бете на квартиру, чтобы мне забрать паспорт, Хорошо хоть квартиру не опечатали: там еще прописана Бетина бабушка, она квартиросъемщик, хотя постоянно живет у тети Мани.
«После работы», - запомнилось мне, хотя я и не представлял, до какого часа тетя Маня работает. Мне казалось, что работает она всегда – она из породы тихих и подвижных старушек, маленьких, сухоньких, с цепким внимательным взглядом, которые все время что-то делают, на работе или дома, их не увидишь с книгой в руке или у телевизора. По-моему, на таких держится мир. Во всяком случае, общественная жизнь. Не держаться же ей на таких отшельниках, как я!
10.
Паспорт действительно лежал на пианино. Это не удивительно – все что угодно мое могло оказаться здесь и, наоборот, Бетино – у меня. Этакое взаимопроникновение, диффузия, как говорят ученые. Вот уже тонкий слой пыли лежит на всех вещах – на столе, на пианино, на скрипичном футляре… Скрипка – как живая Бетина душа, и сейчас она поникла – футляр не стоит, как обычно, в углу, а лежит на журнальном столике. Переживает. Одна. А где ее подружка?
В самом деле, где другая скрипка? Ищу инструмент по всей квартире, но его нет. Тетя Маня тоже ничего не знает. Кто мог взять? Кто здесь был последним? Гамаюнов. В тот день. Неужели он прихватил?
Вечером звоню ему.
- Ну, что ты, старик, как ты мог подумать? Потом, я ведь даже играть на ней не умею...
Мне становится стыдно.
- Может, она кому-то дала на ней поиграть?
Это гамаюновское предположение отнюдь не лишено оснований: Бета была человеком до такой степени не жадным, что могла одолжить скрипку – и даже не слишком хорошо знакомому человеку.
Я подумал: не исключено, что мы так и не узнаем, куда делась скрипка. Наследует Бете ее бабушка, а та слишком стара, чтобы выяснять, что сталось с частью ее наследства.
Говорю Гамме, что завтра похороны.
- Обязательно буду, - отвечает он и – по-деловому: - Есть
кому нести гроб?
Я до сих пор думаю о Бете как о живом человеке, и это слово «гроб» припечатывает меня к земле.
11.
О похоронах – не буду. Это свыше моих сил. Как-то я все это выдержал, но как – словами не расскажешь.
Скажу только, что Гаммы все-таки не было, и я нес гроб, и опять – в последний раз – было «Альфа плюс Бета».
У Гаммы случился гипертонический криз. Верно, не просто так у него румянец – кровь приливает к голове.
Бета ушла куда-то в подпол, а затем, наверное, в небо. Когда мы возвращались, труба крематория исправно зачерняла небо густым жирным дымом.
12.
Насчет Бетиной скрипки неожиданно все выяснилось довольно скоро.
Узнав о смерти Беты, дирижер оркестра Дома Ученых разболелся. Я потом понял: привык видеть ее перед глазами, она ведь сидела за первым пультом.
Дирижер этот был человеком примечательным: Леонид Пятигорский, брат знаменитого американского виолончелиста Григория Пятигорского. Был у них и еще один брат-музыкант, взявший фамилию Стогорский, но, как кто-то пошутил, качество исполнения от количества гор не зависит. Наличие легендарного брата-эмигранта создавало вокруг Леонида, скромного дирижера любительского оркестра, некий романтический ореол. К тому же он хромал, но не слегка, как лорд Байрон, а довольно сильно. Какая-то была у него серьезная болезнь, и ему сказали, что он рано умрет. Но он все держался на плаву. Музыкантом он был талантливейшим, и только эта болезнь помешала ему возглавить хороший профессиональный коллектив. Чувствовал ли он себя неудачником? Может быть; во всяком случае, в этом была одна из причин его раздражительности.
Особенно яростен он был, собрав оркестр на репетицию через две недели. Пришел и я – мне позвонили, и я неожиданно для себя собрался. Не могу сказать, что я уже пришел в себя, но все же мог что-то делать, хотя и механически. Пятигорский буйствовал, всех ругал, первым и вторым скрипкам, игравшим piano, крикнул: «Что вы там чешете?» – и потом добавил зло, обращаясь к кому-то: «Ну что, не помогает новая скрипка?»
Я навострил уши. После репетиции я подошел к концертмейстеру, старику Крону, и спросил, у кого это новая скрипка. Скрипучий Крон повернулся всеми шарнирами своего негнущегося профессорского торса, уставил на меня слепые стекла узких очков без оправы и наконец показал смычком куда-то в глубь: «У Марианны».
Марианну я знал. Ее знали все. Не потому, что она хорошо играла, как раз наоборот. Но она старалась. Эта приземистая полная женщина всегда и во всем прикладывала максимальные старания, играла закусив губу, и капельки пота блестели у нее на лбу. Вот так же старалась она не так давно выйти замуж, и перипетии этой истории обсуждал весь оркестр. Наконец событие совершилось, однако с новым мужем Марианна не очень ладила, они то ссорились, то мирились.
Услышав мой вопрос про скрипку, Марианна запрокинула голову и закокетничала:
- Ах, вы уже знаете… Вы, должно быть, не сводите с меня глаз…
- Ну, так все-таки у кого вы ее купили?
- У Беты, - сказала она обиженно. - За день до того, как… И что тут такого? Я все заплатила сполна!
Извинившись, я направился к выходу. Понятно: они с мужем в очередной раз помирились, и он дал ей денег на скрипку. А она, бедная, думает, что на хорошей скрипке начнет хорошо играть…
Но Бета… Зачем она продала инструмент? Понадобились деньги? Или скрипка навевала болезненные воспоминания о матери? И мне почему ничего не сказала?
13.
А кстати, где деньги? Тетя Маня в квартире ничего не нашла. Неужели Бета успела положить их на сберкнижку? Непохоже на нее – вряд ли можно назвать ее предусмотрительной. Но не потеряла же она их?! Ничего не понимаю. Или не хочу понять?..
И живу где-то внутри себя, соблюдаю обычный свой дневной распорядок, по воскресеньям хожу на репетиции оркестра, занимаюсь с Вассиным Васей. Боли уже не чувствую, потому что ее нельзя чувствовать, если целиком состоишь из боли.
Однажды – больше чем через месяц (у меня теперь один отсчет времени, вернее, невремени) – Васса спрашивает:
- Ну, вы уже, конечно, разобрались, в чем там было дело?
Я говорю, что нет.
Она долго смотрит на меня и спрашивает:
- Вы не понимаете, как все произошло?
- Не понимаю.
- Нет-нет, вы понимаете.
Ночью, ворочаясь, прежде чем заснуть, я отдаю себе отчет: я действительно понимаю. Понимаю то, что в голове не укладывается: я вполне уверен, что Гамма после несчастного случая обшарил квартиру и взял деньги.
14.
Но не могу же я донести на него! Что бы он ни сделал, не могу.
Однако, когда вижу его в очередной раз на репетиции, не выдерживаю:
- Знаешь, я хочу с тобой поговорить.
- Говори, - легко улыбается он.
- О деньгах.
Он удивлен: такого ответа он меньше всего мог ожидать от меня, бессребреника с самого детства, с той самой кисловодской трешки.
- О Бетиных деньгах, - конкретизирую я.
Он долго смотрит на меня и соглашается:
- Давай поговорим. Но не здесь.
- После репетиции.
- Нет. Этот разговор возможен только в одном месте – у Беты.
Теперь уже удивлен я.
- Потом поймешь, - поясняет он.
Говорю ему, что надо взять ключ у тети Мани.
- Возьми. Я тебе позвоню.
Он удивительно спокоен, почти безмятежен. Только вот улыбка хитроватая – с такой улыбкой он обычно обыгрывает меня в шахматы.
15.
Внешние люди – это совсем, совсем не то, что внутренние люди. Внешние говорят для других, а слышат лишь самих себя. Внутренние же люди не говорят ничего, они слушают ветер и ветви, ручьи и руки, осень и озимь, а потом складывают это все в дальней комнате. Для слов во внутреннем человеке есть другая комната, ближняя. Холодные слова там хранятся в холодильнике, теплые – вокруг сердца. Потому что у внутреннего человека есть сердце – маленъкое и зябкое, как все сердца. И оно не греется у костра трескучих слов, как сердце внешнего человека.
Иногда эти двое встречаются, внешний и внутренний человек, и люди думают, что им хорошо друг с другом: внешний человек может поговорить, внутренний – помолчать и послушать. Они не знают, что внутренних людей переполняют слова, невысказанные слова, и от этого болит у каждого из них его маленькое зябкое сердце.
16.
В троллейбусе у меня действительно начинает щемитъ сердце. Хорошо еще, щемит, а не болит непрерывно, как совсем недавно, после…
Вспоминаю, как переживала Бета, когда однажды такое случилось со мной при ней, и тоже в троллейбусе. Вернее, тогда у меня ничего не болело и не щемило, но Бета вдруг спросила:
- Тебе плохо?
- Вроде бы нет. А что?
- Да у тебя губы синие!
Я прислушался к себе и ощутил некоторую неуверенность: а вдруг со мной и в самом деле происходит что-то страшное? Мне стало немного не по себе.
- Синие? - переспросил я.
- Теперь уже почти фиолетовые. И щеки совсем белые.
Тут у меня действительно закололо сердце – наверное, со страху. Я бы посмотрелся в зеркало, но зеркало в троллейбусе лишь одно, сбоку – перед водителем. Я не стал останавливать троллейбус и просить водителя дать мне взглянуть на мои губы и уши.
- А что у тебя с глазами! - почти вскрикнула она. - У тебя же зрачки широкие, как у покойника…
Очнулся я на полу троллейбуса. Какая-то полноватая дама, как оказалось, медсестра, энергично прижимала мою голову к моим же коленям.
- Я тебя, кажется, напугала, - смущенно сказала Бета. – Извини…
И потом еще много раз извинялась.
17.
И еще один эпизод, связанный с троллейбусом. Правда, этого я почти не помню, да и не удивительно: по времени это относится к самому раннему моему детству. Родители мои незадолго до того развелись, я же пока еще не начал говорить – наверное, накапливал впечатления.
И вот в полупустом вечернем троллейбусе я вдруг вышел из безмолвия – и громко произнес вслух мои первые, исторические слова:
- Мой папа дерется стульями. Нехорошо драться стульями!
Пассажиры сдержанно захихикали. Опешившая от таких семейных реминесценций мать спешно схватила меня за руку и на ближайшей остановке вытянула из троллейбуса.
Так я начал говорить. Так зародилась моя склонность к обличительству, из-за которой я сегодня доставил Гамме несколько неприятных минут.
Что же до родителей, развод, наверное, был неизбежен. Отец, конечно, на то и был майором с зеленым околышем НКВД, чтобы покорить в меру диссидентствующую даму, однако как терпеть чужой дурной характер, когда твой собственный – не менее дурной?
18.
Ночью – опять снится Бета. Как будто мы с ней путешествуем, и она повсюду берет с собою дождь. И дает мне уроки смелости.
- Тебе нравится погода? - спрашивает она меня.
- Нравится, - отвечаю я, приглаживая мокрые волосы.
Что-то сверкает, и молния ударяет в дуб, под которым мы сидим.
- И сейчас нравится? - спрашивает Бета.
- И сейчас, - отзываюсь я сквозь звон в ушах. - Люблю сидеть у костра.
Перед нами, действительно, догорает дуб.
Бета улыбается своею новой, смелой улыбкой, запрокидывает голову назад и распускает свои золотистые волосы.
Грохочет гром, с такой силой, что обрушивается наш дощатый домик.
- Тебе его не жалко? - спрашивает Бета.
Чудные глаза ее блистают зелеными искрами.
- Не жалко, - отвечаю я, потому что не могу ответить иначе.
- Тогда пойдем гулять по тучам, - говорит Бета и прыгает на ближайшую тучу.
И мы гуляем с нею по мрачному небу так долго, что я теряю счет времени. А потом теряю и ее за каким-то облаком.
Я ищу ее в небесах и на земле, но не нахожу. Тогда я просыпаюсь и вспоминаю: в жизни Бета была ужасная трусиха.
19.
Вот если бы и мне набраться смелости… Как мне говорить с Гаммой? Бросить ему обвинение прямо в лицо? А вдруг я ошибаюсь? Но нет, Гамма что-то знает. По улыбке видно. Знает и держит в себе – как воздушный шар. Как румяный воздушный шарик… В конце концов, можно же его не прокалывать, а просто развязать – и тогда узнается, что за воздух внутри…
Это я советуюсь с моей комнатой, где свет горит и днем, и ночью. Днем он кажется желтоватым, ночью – синеватым. И куст смородины заглядывает с улицы в окно.
Помню, как друг-художник подарил мне картину, как я нес ее домой, как продумывал каждый свой шаг. Шаги бьли мелкие, осторожные – нелегко идти, когда несешь Красоту! Красота жила на картине – яркой, солнечной, я нес ее в свою комнату с окнами на север и думал, что несу Солнце. Настоящее же Солнце никогда не заглядывает в мое окно – наверное, не интересуется тем, что за ним происходит. Ох, многое там происходит – на бумаге!
Перехватив картину поудобнее, я нес ее теперь перед собой, как некий щит, и людской поток разбивался об нее, словно о волнорез. Художник заключил картину под стекло, и я подумал: это правильно, пусть она всегда будет такой, как сейчас, и никогда не соприкасается с лишенным гармонии миром. С миром, в котором Хиндемит еще имел смелость углядеть некую «Die Harmonie der Welt»*… Шагов до дому было уже меньше. Интересно, сколько, думал я отдыхая, затем взялся за веревку и пошел дальше, неся картину наподобие портфеля. Тут я чуть было не уронил свою ношу – развязался один из узлов, завязанных художником, и картина стала падать. Я успел подставить ногу и одновременно поймать рукой верх картины. Ничего страшного не произошло, только угол стекла чуть царапнул по асфальту. Лишь сейчас ёкнуло сердце – я понял: могло произойти непоправимое!
Теперь я завязал узел крепко, но все равно не доверял больше веревке и снова нес картину перед собой.
Вот наконец дом. Входная дверь и дверь моей квартиры неохотно пропустили новую жилицу. Вот сняты веревки, вбит гвоздь, вот картина уже висит над пианино…
Да, картина заняла новое место. Первым делом она осмотрелась, поискала солнце, не нашла его и вобрала в себя белые лучи люстры. Тогда картина избрала себе новый колорит и решила: «Буду отстаивать его».
Я отошел подальше, глянул на картину и удивился: вместо солнечного полудня на ней был вечер.
20.
Устав разгадывать загадки вечности, я говорю сам с собой о завтрашнем дне, но сфинкс все еще громоздится в моем сне и задает мне беззвучные вопросы. Они раскалывают тишину как шлепки подошв по мраморному полу. Я подобен песчинке под ногами времени, я уже не надеюсь найти ответы. Все, чего я хочу, - это уйти достаточно далеко от самого себя, и я бреду по залитой солнцем пустыне, среди кактусов и вопросительных знаков. Вдали вырисовывется еще один темнокаменный сфинкс, и я знаю, что это не мираж, а может быть, уже и не сон.
И вот настает полдень следующего дня, правда, бессолнечный, и надо звонить тете Мане.
- А что вы будете там делать, в Бетиной квартире? - задает
она мне вполне резонный вопрос.
- Поговорим. Может быть, выяснится, где деньги.
Тетю Маню, как человека практичного, деньги волнуют гораздо больше, чем проблемы дружбы и предательства. Мы встречаемся с ней у метро, и ключ оказывается у меня.
Звоню Гамме:
- Ключ взял. Сегодня?
- Нет, я еще не готов. Завтра с утра. В десять.
Соглашаюсь и вешаю трубку. К чему это он не готов? По-моему, он готов всегда и ко всему, к любым неожиданностям. И всегда выходит сухим из воды.
21.
Как мне говорить с ним? Не люблю таких разговоров, да и он для меня в последнее время – не самый приятный собеседник. Нет, не только в последнее время – раньше, много раньше. С тех пор как его ум раздружился с сердцем.
Вообще, если не считать Бету, нет и не было у меня в жизни собеседников, с которыми можно было бы говорить как с самим собой, не мимикрируя. Человеческий характер для меня – мозаика. Люди видятся мне растрескавшимися амфорами. Каждый распадается на черепки, которые порою очень красивы: с одним человеком хорошо поговорить о книгах, с другим – помолчать о музыке, с третьим – сыграть партию в шахматы, с четвертым – отправиться в поход куда-нибудь на край света. Иногда я жду, что навстречу мне выйдет некто, обладающий всеми приятными мне свойствами. Но нет, такого не случается. Все же, надеюсь, я когда-нибудь увижу этого некто – ведь имя тому, в ком собрано лучшее, что есть в людях, – Бог... Или все-таки Будда?
22.
Тихое солнечное утро. Москва плавает в тополином пуху. Сижу на детской площадке перед Бетиным домом, стараюсь не смотреть на окно, на то самое окно. Качели возле меня сломаны, они без сиденья, и я пытаюсь понять, можно ли на них качаться. Наверное, можно – если ухватиться руками за железные перекладины…
Гамма подходит неслышно, трогает меня за плечо:
- Пошли?
Поднимаемся на лифте на десятый этаж. Я отпираю так хорошо знакомую мне дверь.
Пыли нет – тетя Маня недавно приезжала убираться. Солнце исчертило стены, шкаф, пианино, высветило циферблат давно, наверное, остановившихся стенных часов. Духота невыносимая, и Гамма открывает окно.
Мы садимся за стол, который Бета всегда накрывала белой, вышитой гладью скатертью. Теперь скатерти нет, и посреди круглой коричневой лакированной столешницы голубеет след от утюга.
Гамма ставит рядом почти того же оттенка голубоватую бутылку боржоми и открывает ее брелоком от ключей. Я приношу с кухни два стакана.
- Ну вот, теперь можно поговорить, - начинает Гамма. - Впрочем, я, кажется, знаю, что ты хочешь сказать. Ты думаешь, я взял деньги.
Я молчу, но взгляд у меня, наверное, достаточно выразительный.
- Я тебя сейчас удивлю, - продолжает Гамма. - Знаешь, где деньги? Они здесь. В квартире.
- Мы ничего не нашли, - возражаю я.
- Вы не знали, где надо искать.
С этими словами Гамма подходит к пианино, открывает крышку внизу, над педалями, и залезает куда-то в самую душу инструмента, откуда извлекает пухлый коричневый конверт.
- Вот они, - говорит Гамма и кладет конверт в самый центр стола, рядом с бутылкой, как бы между нами, после чего спокойно начинает отряхивать приставшую к рукаву паутину.
- Как они там оказались? - несколько ошеломленно спрашиваю я.
- Разумеется, я их туда и положил. Не хотел рисковать – вдруг какому-нибудь дураку-милиционеру пришла бы в голову идея меня обыскать.
- Значит, ты хотел их унести?
- А они для меня и предназначены. Зачем, по-твоему, Бета продала скрипку?
- Деньги – для тебя?
- Ну да. Я машину покупаю, мне не хватает.
- И Бета вызвалась помочь?
- Не совсем так. Я ей сказал, что у меня мать больна и нужны деньги на лечение.
- Ты ее обманул!
- Да, обманул, - легко соглашается он.
Я молчу. Кажется, барабаню пальцами по крышке стола.
- Почему ты мне это рассказываешь?
- Но ты ведь хотел знать про эти деньги.
- А ты меня не разыгрываешь? - начинаю сомневаться и я беру со стола конверт.
Он не запечатан, и в нем действительно купюры. Много купюр.
- Не разыгрываю, - улыбается Гамма. - Она действительно погибла из-за этих денег.
23.
В первый момент я даже не понимаю, что он сказал. Потом смысл постепенно до меня доходит, пока не отпечатывается в моем сознании так же отчетливо, как след от раскаленного утюга на столе.
- Как она погибла? - наконец спрашиваю я.
Конверт жжет мне пальцы, и я бросаю его на стол.
- Какая тебе разница? Ну, скажем, она сидела на подоконнике и потеряла равновесие. Даю тебе на выбор два варианта: либо она сама потеряла равновесие, либо я ей слегка помог.
- Ты убил ее, мерзавец!
Вскакиваю с места и хочу запустить стаканом в эту круглую улыбающуюся румяную рожу, однако Гамма как-то успевает перехватить мою руку.
- Сядь! - повелительно говорит он, и я действительно сажусь – кажется, все мои силы ушли на последнюю вспышку. - Ну, предположим, я и в самом деле ее убил, - продолжает он. - Ты пойдешь на меня заявлять?
Молчу.
- Ну, вот то-то же. Не пойдешь. Что бы я ни натворил.
- Господи, ну почему ты такое чудовище?! И зачем ты это
сделал – деньги ведь уже были у тебя…
- Удобный случай. Она действительно сидела на подоконнике, и я подумал: можно ведь деньги и не возвращать. Если сделать одно неосторожное движение…
Меня охватывает холодное бешенство.
- Нет, я на тебя заявлю. Вот прямо сейчас пойду и это сделаю. Не думай, что ты совсем лишил меня воли.
- Не думаю, - обезоруживающе улыбается Гамма. - Конечно, заяви. Можешь, кстати, начать прямо сейчас – я при исполнении.
И он достает из кармана красную книжечку, машет ею, и золотые колосья герба прочерчивают блестящий ручеек перед моими глазами.
24.
Наливаю себе боржоми и выпиваю пол-стакана. Такого я, признаться, не ожидал.
- Не бойся, вода не отравлена, - отпускает Гамма милую
шуточку.
- Кто тебя знает… Но скажи, почему ты с ними? У тебя же мать филолог, ты из интеллигентной семьи…
Вот тут он наконец начинает злиться.
- А что ей толку от ее интеллигентности? Всю жизнь прожила в коммуналке, учила школьников за гроши. Мне хотелось другого. Власти, влияния… Страна сейчас наша, а не ваша, и это надолго, если не навсегда. Думаешь, у нас только приезжие и пэтэушники? Нет, везде нужны мозги, а у нас – особенно… Как по-твоему, зачем я ходил играть в оркестр?
- Теперь уже не знаю.
- А ты вспомни, что это за оркестр. Дома Ученых, верно? Как ты думаешь, интересует нас, о чем говорят ученые?
- Ах, вот оно что!.. М-да, и ведь никто в оркестре не догадывался…
- Бета догадалась. Она прямо меня спросила в тот день, когда передавала мне эти деньги.
Вот почему она погибла, понял я. Ведь Бета всем бы рассказала, а тогда…
- Зачем ты мне это говоришь? Думаешь, я буду молчать?
- Надеюсь, что да. Я и те двое на улице об этом позаботимся.
Подхожу к окну. На детской площадке обретаются двое мужчин. Один читает газету, другой инспектирует сломанные качели. Когда я появляюсь в окне, оба дружно таращат на меня глаза.
И тут Гамма сзади на меня набрасывается.
25.
Не могу сказать, что я этого не ожидал. Еще когда он заявил мне позавчера, что пока не готов со мной встретиться, я почувствовал: что-то затевается. Ну конечно, вот свидетели, готовые подтвердить, что я выбросился из окна. Гамме не обязательно даже обозначать свое присутствие: когда я буду уже лежать на земле, он просто уйдет, как будто его здесь и не было. Отпечатки его пальцев потом сотрут…
Все эти мысли вертятся у меня в голове, пока мы с ним боремся, обхватив друг друга, у открытого окна. Не то, чтобы я очень хотел жить, но погибать по вине этого негодяя у меня нет никакого желания. Я сопротивляюсь инстинктивно, вернее, сопротивляется мое тело. Машинально я вывертываюсь, когда он обхватывает меня сзади, машинально удерживаю его за плечи.
Но он все-таки сильнее меня. Он толкает, толкает меня к подоконнику, и вот я уже прижат к нему, голова моя снаружи, мне видно ограждение крыши и солнце бьет мне в глаза. Гамма тоже сидит на подоконнике и пыхтит, силясь оторвать мои ноги от пола. Вот еще немного – и…
И звонит телефон. Гамма, кажется, ослабляет хватку. Явно у него рефлекс: слушать. Да, он действительно ослабляет хватку и даже на мгновение теряет равновесие, хватается за воздух… Нет, сейчас он ухватится за раму, а потом выбросит, обязательно выбросит меня из окна. И я чуть-чуть толкаю его плечом в сторону от рамы. Он все-таки пытается до нее дотянуться, промахивается – и перед моими глазами мелькают его серые брючины и – не в тон – дорогие коричневые штиблеты. С диким воплем он летит вниз.
26.
Плотный удар – и вопль обрывается. Я в это время переворачиваюсь на подоконнике и смотрю уже не на крышу, а вниз. Гамма лежит на асфальте, разбросав руки в стороны, как будто пытается обхватить весь земной шар. Он не шевелится. Не двигаются и те двое, они в шоке: не понимают, что произошло. Больше на улице никого нет. Телефон все звонит, звонит…
Потом, как по команде, все начинают движение: двое оперативников бегут к телу, я закрываю окно и выбегаю из квартиры. По дороге я не задумываясь хватаю конверт с деньгами. Захлопнув дверь, я делаю несколько шагов вниз по ступенькам, но останавливаюсь: на улице оперативники, спускаться нельзя. Куда же мне деваться?
И я поднимаюсь по лестнице на один этаж, потом еще. Позвонить в какую-нибудь квартиру? Но они обязательно пройдут по квартирам и найдут меня. И я продолжаю подниматься. Вот уже последний, четырнадцатый этаж и – обитая жестью дверь на чердак.
Неужели закрыто? Толкаю раз и еще раз – поддается, со скрипом открывается. Чердак огромен, здесь пусто и пахнет сыростью. На дальней стене узкие окошки, похожие на бойницы; в них просачивается свет. Закрываю за собой дверь. Но ведь и здесь найдут! Вот если бы запереться изнутри! Осматриваю дверь. Она открывается внутрь; вижу сломанную щеколду без стержня. Конечно, она сломана – кому нужно запираться на чердаке?.. Мне, мне нужно! Но как?
Осматриваюсь. Под ногами битые кирпичи, пыль, песок. Вижу гвоздь, правда, кривой. Вот если бы потолще… А вот и потолще, и даже не искривленный, выпрямлять не надо. Вставляю его в щеколду вместо стержня, пробую открыть дверь. Держится! Можно, конечно, выломать, но не сразу же они станут ее ломать! Кажется, я получил передышку.
27.
Сажусь на сломанный ящик, стоящий у стены, и пытаюсь унять дрожь в пальцах. Приходит мысль: я ведь только что выбросил человека из окна. Но почему-то никаких угрызений совести не возникает. Получается, что я отомстил за Бету. Неужели и во мне где-то глубоко сидит первобытный принцип «око за око»?
Кто же все-таки звонил? Наверное, тетя Маня. Или кто-то ошибся номером. Кто бы это ни был, он спас мне жизнь. Хотя, наверное, ненадолго. Если эти двое меня здесь поймают, они не сдадут меня в отделение, они меня убьют.
Иду к двери, чтобы еще раз проверить самодельный запор, но слышу на лестнице голоса. Совсем близко.
- Нету его. Может, на чердаке?
И кто-то сильно толкает дверь. Я успеваю всем телом налечь на дверь с другой стороны, и она выдерживает.
- Не поддается. Заперто, что ли?
- Ну-ка давай вдвоем.
На сей раз толчок сильнее. Дерево трещит; еще одного толчка щеколда не выдержит. Но нет, они больше не пытаются открыть дверь.
- Позвони в домоуправление, чтобы ключ принесли, - слышно мне. - Я пока пройду по квартирам.
Кажется, непосредственная опасность миновала. Я отхожу от двери и решаю осмотреть чердак, Дом большой, многоподъездный – может быть, отсюда можно попасть на другую лестницу?
Я иду направо. Действительно, там две двери, но обе заперты. Возвращаюсь, иду в другую сторону. В доме, насколько я помню, восемь подъездов, значит, надо проверить еще пять дверей. Три из них оказываются заперты, четвертой же вообще нет – проем забит листом фанеры. Проламываю дырку – и я уже на лестнице, Вызываю лифт, но потом почему-то решаю, что это опасно, и бегу вниз по лестнице, постепенно сбавляя темп. На третьем этаже останавливаюсь – на площадке второго кто-то курит. Оглядываю свою одежду – не слишком ли она растерзана? Вроде бы, ничего, на рубашке нет верхней пуговицы – наверное, отскочила, когда мы с Гаммой боролись, но сейчас жарко – мог же я не застегиваться? Отряхиваю с брючин опилки, принимаю деловой вид и спускаюсь. На площадке дымит сигаретой тощий подросток в голубой динамовской майке. На меня он не обращает ни малейшего внимания. Очевидно, я уже не так близко к месту происшествия и сюда тревога еще не передалась.
Выхожу на улицу. После полутемного чердака солнце меня ослепляет. Я не сразу соображаю, в какую сторону идти. У Бетиного подъезда уже собрались зеваки, подъезжает милицейская машина. Иду в другую сторону, кружным путем выбираюсь к автобусной остановке, жду, наконец решаю идти пешком, но тут появляется автобус.
Добираюсь до метро. На часах – половина первого. Я думал, мое сидение на чердаке продолжалось вечность! Еду домой и думаю: у меня всего минут пятнадцать на сборы.
Дома меняю рубашку, надеваю пиджак, кладу в карман деньги – полученный недавно гонорар за книгу, бросаю самое необходимое в саквояж, потом спохватываюсь и кладу сверху партитуру "Летучего Голландца".
28.
Надо быстро выбираться из города. Уже всем, кому надо, прекрасно известно, кто выбросил из окна оперуполномоченного Гамаюнова. Известно и где этого человека искать. Счет идет на минуты.
Запираю за собой цверь. Прощайте, музыковед Алфеев Константин Борисович!
По дороге – еще одно дело. Заезжаю к тете Мане. Дом у нее старый, и почтовый ящик по-старинке прибит к двери; бросаю туда конверт с деньгами, в который я еще раньше положил ключ от Бетиной квартиры, звоню в дверь, но не жду — некогда — и сразу же спускаюсь. Внизу слышу, что дверь отпирают. Надеюсъ, тетя Маня не обидится и поймет – она всегда меня хорошо понимала. Надеюсь, они с Бетиной бабушкой догадаются заглянуть в почтовый ящик…
Догадались. Уже на улице вижу в окне тетю Маню с конвертом в руках, она делает рукою прощальный жест. Скоро, сегодня же она узнает, что произошло, - ее вызовут, когда милиция захочет осмотреть Бетину квартиру, а без этого, разумеется, не обойдется.
Я снова в метро. Половина второго. Решаю сестъ в электричку не на вокзале, а на самой окраине города. Покупаю себе билет до самой дальней станции. Ехать больше двух часов. Но будет еще не очень поздно, я успею забраться куда-нибудь поглубже и найти себе пристанище. К окошку кассы подхожу так, чтобы лица не было видно.
Вот она, электричка. Полупустая. Через пять минут я уже оказываюсь за окружной дорогой, за чертой Москвы. Даже интересно, куда меня заведет мой инстинкт самосохранения.
29.
Народу в вагоне мало. Я еду и разговариваю сам с собой. Молча.
«А ведь ты бежишь, - говорю я себе. И еще я говорю себе: - Бежать стыдно. От кого ты бежишь?»
«От плохих людей».
«Плохих людей много».
«От самых плохих людей».
«Разве это так страшно – плохие люди?»
«Страшно, если они – власть».
«Власть – это всегда дурные люди. Что же, всем бежать?»
«Не всегда власть – это дурные люди. Но даже если так, не всегда дурным людям дана такая свобода творить зло».
«Куда же бежать от власти? Она везде».
«Я бегу внутрь себя. Я бегу в никуда».
«Тогда тебе придется стать никем».
«А я уже Никто».
И я прощаюсь с прежним своим именем. Беты и Гаммы теперь нет. Не будет и Альфы. «А и Б сидели на трубе. А упало, Б пропало. Кто остался на трубе?»
Услышав как-то раз это на перемене, румяный малолетний хулиган Га-Га грубо загоготал, оправдывая этим свое звукоподражательное прозвище, и дал собственный вариант ответа: «Ка-Ге-Бе».
30.
На соседнем сиденье устроился потертого вида торговец с прозрачным пакетом, полным завернутых в полиэтилен матрешек. Он бережно держит пекет на коленях. Вагон вздрагивает на стыках шпал, и матрешки, сталкиваясь боками, рождают странный деревянный звук.
Вообще, матрешка – интересный символ: в животе ее живет завтрашний день. Но в этом завтрашнем дне – не реальная персона, а всего лишь другая матрешка. В новой кукле, вымечтанной днями, меньше субстанции, но больше смысла. Иногда меняется одежда, порою возраст, изредка даже пол. С течением дней смысл сгущается в маленькую бесполую куколку, беспомощную деревянную святую, которую нельзя открыть, и которой уже ничего не нужно, кроме внутриутробного покоя, потому что она – конечный итог. Цельнокройная куколка смотрит на хозяина пустыми плохо нарисованными глазами. Хочет ли она сказать, что сомневается в том, настанут ли иные времена? Вокруг разбросаны половинки матрешек из вчерашнего дня. Их можно сложить вместе и отдать кому-то другому, кто еще не постиг великой конечной истины и не испытал деревянный ужас безысходности.
Говорят, у человека матрешечный мозг, но ведь и государство – та же матрешка, внутренняя куколка которого думает: государство – это я. И ведь куколка-то права, каждое государство настолько хорошо – или настолько плохо – как человек, что его представляет. Потому что оно, государство, решает, что этой куколке дозволено, а что нет...
На очередной станции кто-то входит, садится напротив меня. Мужчина моего возраста, черноволосый, еврейско-интеллектуального вида. Почему-то мне кажется, что я его знаю. Неужели знакомый? Или мне показалось? Время от времени посматриваю на него.
Наконец он с улыбкой говорит:
- Нет, мы с вами незнакомы.
- Может быть, где-то встречались? - предполагаю я.
- Вряд ли, - отвечает.
- Не понимаю, что же между нами общего, - думаю я вслух. – Вы ведь ощущаете, что между нами есть что-то общее?
- Да, есть, - говорит он. – Мы с вами оба в желтых рубашках.