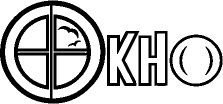1.
Что такое русский кошмар? Автобус, которого не дождешься, или когда идешь вдоль забора, который никогда не кончается, чуть не падаешь в яму или не получаешь письма, что, возможно, покоится на дне этой ямы; трель отбойного молотка в дождь, запах гари с апреля по август, неприветливые магазины, любопытные электрички… В это погружаешься как в тепловатую грязноватую ванну, где только что мылись соседи. Это вспоминают твои сны и забывают твои будни в чужих городах. Это было бы хорошим лекарством от ностальгии, если бы этот мир был более гостеприимным местом.
Русский писатель Свидерский, живший во Франкфурте-на-Майне, выбирал свое будущее на ближайшую пару недель. «В Москву, в Москву, в Москву, – сказал ему за день до этого друг-немец. – Вы слишком давно там не были».
«Хорошо ему говорить, в Москву, а где жить-то в Москве? – поутру продолжал размышления плохо проснувшийся Свидерский. – Квартиру на короткий срок снять почти невозможно, а у друзей настолько тесно, что они сами едва помещаются…»
И тут он вспомнил, как его подопечный по литературной студии, молодой человек по имени Георгий Сакович, сказал ему, когда он уезжал: если приедете, можете у меня остановиться, квартира лишняя имеется.
Лишнего, конечно, нигде ничего не бывает, особенно в Москве.
Писатель решил позвонить.
- Ой как вовремя! – умилялся Сакович. – Как раз жилец съехал, и другого до Нового года не найти. Такая радость – учителя у себя принять! Я вам по гроб жизни обязан!
При упоминании «гроба жизни» стилист Свидерский очень поморщился, но, слава литературному Богу, в телефон этого видно не было.
2.
Сидя в евролайновском автобусе в окружении российских тетушек, успешно выдавших своих дочек за немцев, а теперь возвращавшихся домой после очередного их посещения, писатель думал: чем же он мне обязан? Тем ли, что я пытался развить его вполне провинциальный вкус, просматривал его тексты, правил ошибки, и так – восемь лет? Да, хорошее качество – благодарность. Только этот маменькин сынок имеет в виду другое. Я его в Союз писателей рекомендовал; вот этот пустяк для него – ценное. Да, и еще я стихи его а-ля декаданс в хороший журнал устроил. Там удивились, спросили, сколько автору веков, ах извините, годков, но напечатали. Как он хотел – под псевдонимом Нищебродов. Так и не вышло из него поэта, подрабатывает переводами. Если стихи переводить брался, обязательно мне нес – на правку. Небось, очередную порцию приготовил, потому и зовет… Нищебродов – он и есть Нищебродов. Зачем, интересно, он псевдоним себе такой придумал? Сакович – тоже достаточно странно звучит…
Один из водителей-белорусов тем временем привычно обхамливал разгалдевшихся великоросских тетушек.
- Бабки, молчать! А то на тот свет вас завезем!
Тетушки испуганно притихли.
«Почему Европа кончается у дверей российского автобуса? – размышлял писатель. - Ученые еще спорят относительно восточной границы Европы, а ведь вот она! Потому что дальше уже полная азиатчина, горячительная бранная удаль, перемежающаяся вспарыванием теплых животов. В сущности, посетителям прививки бы надо делать от этого, так же как россиянам – от холодного климата европейского безразличия. Только вот вакцину еще не изобрели…»
Автобус тем временем плыл из вечной немецкой осени в польское предзимье, готовясь нырнуть, как в прорубь, в российскую зиму. Писательские мысли плыли так же неспешно и зябко… Люди – это средства собственного передвижения к цели. Есть экипажи центростремительные, а есть и повозки, что по обочине дороги едут. Долго едут, но порою и до места доскрипят. Потом можно часами слушать их рассказы о камнях и корягах, под колеса попадавшихся…
Ровно через двое суток писателя, несколько потерявшегося среди теплопуховых тетушек, выгрузили на заснеженной площади трех вокзалов.
3.
Поэт и художник Игорь Бурихин как-то нарисовал черепаху на плане Москвы – и совпало. «Да, этот город – черепаха, - думал Свидерский, шагая по московским улицам, - и она ползет на запад, уже много веков, но пока только выбралась на берег Москвы-реки, сонная от кошмарных воспоминаний, вымазавшаяся в мазуте истории, тяжело дышащая зловонными испарениями, вся в испарине. Выходя из воды, она передавила отложенные однажды яйца и теперь волочится в будущее сама, нелепая и неуклюжая, с виноватой татарской улыбкой на голом скуластом лице, кивающая в такт своим движениям всезнающей бездумной головенкой…»
Квартира Нищебродова была неподалеку от Сущевского вала. Проспекты, словно реки, обтекали острова прямоугольных панельных домов. Договорились встретиться у метро.
Нищебродов опоздал на полчаса. Он появился без шапки, и Свидерский подумал: вот и этот почти облысел, в его-то тридцать. Засунув руки в карманы мягкой черной дубленки, Нищебродов объявил, что он отнюдь не опоздал, а, наоборот, давно уже здесь ходил, но никого не видел. «Вот чудак!» – подумал писатель, пожал плечами и спорить не стал.
На письменном столе в квартире помещался черный жукообразный телефон, а еще – гранки какой-то рукописи.
- Это мои переводы, - сказал директорским тоном Нищебродов. – Шестнадцать стихотворений и восемь статей. Меня первый раз в книге хотят напечатать… Будьте любезны просмотреть и исправить.
«Ах, вот ты как, сукин сын!» – подумал Свидерский, но вслух сказал иронично:
- Хорошо, буду любезен просмотреть.
Телефон заработал ближе к вечеру, когда оставшийся в одиночестве писатель после московского чаю с баранками предвкушал уже не автобусный, а вполне железнокроватный сон.
- Как замечательно, что вы уже здесь! – захлебывалась трубка. – Я звоню, звоню и думаю: когда же наконец мой любимый автор приедет? Заходите к нам в издательство, вам дополнительный гонорар полагается – за переиздание.
- Зайду, зайду, - улыбнулся писатель. – Гонорар – это святое… Но как вы узнали, что я приезжаю, и главное – где меня найти? Никто ведь не знает…
- Ну, положим, у нас есть одно ведомство, которое все про всех знает…
- То есть…
- Забываете вы, батенька, что наше издательство-то было при ЦК КПСС. Я и тогда директором был, так что это старые связи. Чекисты мне всегда помогали. Но это, конечно, между нами…
«Ага, Нищебродов, ты, оказывается, у них под колпаком, - ворочался в своей постели писатель, мечтая о полусуточном сне. - Прослушивают они тебя, дуралея… Или ты с ними, и они от тебя знали, что я приезжаю?! Но нет, не может быть…»
И на всякий случай накрыл телефон своим пальто.
4.
Чекисты скрипели сапогами в его сне, заглядывали в окна восьмого этажа. Послали его учиться политграмоте в чекистскую школу, заставили писать сочинение о Сталине. Он написал фиолетовые письмена почтовой одноразовой ручкой, которую надо было окунать в чернила после каждых трех слов. Ближе к концу сна ему вернули его работу, исчерканную красными чернилами, с жирной кровавой двойкой внизу листа. Опять двойка! – усмехалась нарисованная мелом физиономия на классной доске. Он решил перечитать свое сочинение и с первых же строк понял: он этого не писал. Однако почерк был безошибочно его собственный.
Сталин
произошел из ребра Ленина. Ребро было желтое и кривое, поэтому Сталин
вышел
смугл и усат. Первое, что он сказал породившему его Ленину, было
последним, что
тот услышал. Сталин всегда произносил последние слова, за себя и за
других. В
юности он шил на продажу бараньи ботинки, и они вели тех, кто их
надевал,
прямой дорогой на каторгу. Сталин тоже туда сходил, осмотрелся, и в
голове его
отложилась одна мысль. Поскольку мысль у него была всего одна, с
каторги его
отпустили делать революцию. Разумеется, это ему не удалось, революцию
делали
другие, а он по-бараньи тупо моргал глазами, что было понято всеми как
деятельное одобрение. После переселения Ленина в мавзолей правая рука
Сталина
долго находилась в непримиримом противоречии с его левой рукой. Левая
рука
носила фамилию Троцкий. Наконец Сталин решил иметь две правых руки, а
левую
отсек себе ледорубом. Ледорубу было очень больно, но Сталин его не
жалел. Он
вообще никогда не жалел вещи, ни женского, ни мужского пола. Он
складывал их
штабелями на каторгу, разросшуюся метастазами из единственной мысли его
мозга.
Каторга распространялась по карте торопливым чернильным пятном, она
пела,
плясала и работала на заводах. Решив, что нужно обзавестись второй
продуктивной
мыслью, Сталин отправился на тот свет приглядеться, нельзя ли и тот
свет
распространить по карте вслед за каторгой. Однако обратно с того света
столь
долгожданного посетителя не отпустили.
«Да меня за это…» - похолодел Свидерский и сразу проснулся, а утренний воздух в его комнате с удовольствием вторил его сну эхом: да тебя за это, за то, за всё… Кошмар русского эмигранта, ненадолго вернувшегося на родину…
5.
У Саковича был друг Сакевич, тоже поэт. Потому-то Сакович и стал Нищебродовым. Сакович был поляк, Сакевич – еврей. Сакевич вот уже десять лет считался подающим надежды автором. Сакович-Нищебродов надежд не подавал никогда. Он ничего не подавал, подавали ему.
Что же касается Сакевича, тот работал санитаром в больничном морге и был намагничен таким образом, что устремлялся за каждой встречной девушкой. С ним трудно было идти по улице, он без конца отвлекался, говорил: «Погодите немного», начинал преследовать какую-нибудь девушку, минуты через три возвращался с видом побитого пса и говорил: «Ладно, идемте». За углом все повторялось, только возвращался он скорее. Сердобольный Свидерский всегда пытался его успокоить, говорил, в следующий раз получится…
Если у Сакевича получалось, он исчезал недели на две, потом с ним опять трудно было идти по улице. Каждую из его девушек звали Катя; может быть, он их переименовывал. У некоторых Кать были от него дети. Кати и дети – он не любил о них говорить. Кажется, он жил по системе, писал два стихотворения в неделю, ходил на работу три раза в неделю, был вполне доволен собой, но Свидерский почему-то его жалел. Переставал он его жалеть только когда тот смаковал свои очень правильные стихи на темы морали.
Очередное смакование, как сообщил по телефону ближе к концу утра Нищебродов, намечено было на этот самый вечер. Стихи читались почему-то в бывшей синагоге, а теперь еврейском культурном центре где-то в Пречистенских переулках. Собралось много пожилых дам, настолько пожилых, что они, пожалуй, и не знали, что синагога куда-то переехала.
Сакевич опаздывал на свое собственное выступление. Вот он наконец появился, бледнолобый, обмотанный длинным черным шарфом, с волосами, стоящими дыбом.
- Поэт пришел, - загудели дамы.
Поэт, конечно, привел с собой девушку, высокую и худенькую, с густо нарумяненными губами.
- Здравствуйте, Катя, - сказал уверенно Свидерский.
Девица заметно вздрогнула и испуганно зашептала на ухо Сакевичу:
- А почему он знает?!
- А потому что у него большой жизненный опыт, - криво усмехнулся стоявший рядом Нищебродов.
Стихи – как всегда, высокоморальные – смаковались густо и обильно, завораживая своими обертонами пожилых дам. Конец вечера утонул в аплодисментах.
- Ну, как вам? – шепнул Свидерский ученику, когда все уже стали расходиться.
- Местечково, - скривил и так уже кривоватый рот страдавший неизлечимой завистью Нищебродов.
- Извольте, сударь, выражаться словарно, - отчеканил Свидерский. – Я таких слов не знаю и знать не хочу.
Завистник смешался.
- Спасибо, что пришли, - сказал Сакевич Свидерскому, держа за рукав свою Катю – чтобы не убежала, что ли? - думал Свидерский. – Поэты у нас, как вы знаете, не ходят слушать друг друга. Журналисты вот иногда посещают. Вы слышали про знаменитую Мотю Кузькину?
- Что-то слышал, - отозвался Свидерский. – А что?
- Она здесь.
- Здесь? Где же?
- Вот там, в углу.
В указанном углу, полуобнявшись, беседовали два молодых человека.
- Позвольте, я ее не вижу, - несколько удивленно проговорил Свидерский.
- Один из этих молодых людей и есть она.
- М-да, «она» в этом контексте звучит несколько двусмысленно… Ну да ладно… А кто второй?
- Второй – его новая пассия, cher amie, так сказать. Правая рука главаря нашей нацистской партии. Правда, хорош, белокурая бестия? У нас ведь теперь не принято дискриминировать людей из-за их убеждений.
6.
«Вот ведь люди выступают, читают стихи, - размышлял Свидерский в такт своим шагам по дороге домой. - В Германии я как-то от этого отвык. Хорошо, положим, я выступаю здесь, в Москве; кто придет на мое чтение?
Господин Я Тоже Поэт Меня Пять Лет В Литинституте Учили.
Господин Я Вообще-то Из Охранки Интересно Кто Что Скажет.
Господин Вы Явно Ориентируетесь На Западного Читателя.
Госпожа Вы Не Должны Называть Себя Поэтом Это Нескромно.
Господин Мы Вас Новых Не Знаем Где Вы Были В Семидесятые.
Госпожа Я Пишу Трехстишья Стоит Ли Писать Длиннее.
Господин Какой Вы Русский Поэт Если В Вас Нет Русской Крови.
Господин А Что Не В Рифму Это Что Проза.
Господин Ну Конечно Вы Дружите С Издателем Поэтому Он Вас Издает.
Госпожа Как Вы Допустили Что Вашу Биографию Поместили На Обороте Обложки В Рекламных Целях.
Господин Я Тут Случайно Я Постою В Дверях А О Чем Этот Поэт Пишет.
Госпожа Ой Сюда Мужчины Приходят И Все Такие Умные.
Господин А Я Лично Люблю После Водочки Да Под Гитару.
Господин А Можно Я После Вас Свое Почитаю.
Господин Как Это Вы Не Можете Подарить Мне Вашу Книгу Зачем Я Тогда Пришел.
Господин Вы С Вашим Авторитетом Просто Обязаны Поддержать Нашу Политическую Партию.
На мое чтение придут эти и еще некоторые другие. А я приду?
7.
Наутро Свидерский сел править нищебродовские переводы. Все те же ошибки, отметил он про себя, стремление выражаться красиво, а отсюда ненатуральность языка, вычурность. Хорошему вкусу не научишь, особенно тех, у кого его никогда не было. Вообще, поэзии не научишь, литературе не научишь, в литературе все хоть чего-то стоящее – не благодаря, а вопреки. Впрочем, в нашем дымном отечестве все стóящее и так всегда вопреки, и нет пророка без проклятьем заклейменного в газетах порока, а пороки – они и есть наши всамделишные пророки…
Эти мудрые мысли проносились в рыжелохматой после утренней ванны голове Свидерского. Ему сегодня золотой рыбкой блеснуло радостное известие: в подмосковном городе скоро выходит книга его стихов. В этом городе он выступал несколько раз, последний раз года три назад; его там любили и как-то раз предложили: дайте нам рукопись, стихотворений шестьдесят, ничего не обещаем, но может быть, издадим в нашем издательстве. Свидерский дал им папку со стихами и вскоре об этом забыл. Стихи в Москве и ее окрестностях выходят в виде книг только если это очень кому-то нужно.
Но кто-то, видно, очень захотел издать его книжку, потому что она, сказали ему, почти уже существует. Отпечатана уже, и тираж переплетают. Мы их поторопим. Вовремя вы приехали, может, выступите у нас опять? И писатель, понятно, согласился – как же не выступить если они, такие милые и хорошие, книжку его издают? К тому же, не в Москве выступать, что спокойнее и лучше.
Друзьям любопытно было видеть Свидерского в облике иностранца: в теплой синей стеганой немецкой куртке и клетчатом зелено-красном шотландском шарфе цветов клана Максуэлл. Для его приятелей, впрочем, что Шотландия, что Германия были как далекие планеты даже и не Солнечной системы.
- Ты там – пишешь? Работаешь? – строго спросил его приятель-драматург.
- Пишу, пишу, - успокоительно сказал Свидерский, а сам подумал, что кроме стихов и одного короткого рассказа, ничего за весь год не написал, вот только сейчас за роман взялся. – Я даже и здесь пишу, тетрадь с собой взял.
- По глазам вижу, что мог бы и больше написать. Помнишь, кого Данте поместил в последний круг ада? Художника, который не работает.
8.
Сквозь утро, сквозь остатки сна в глазах, сквозь гудение электробритвы... Телефонный звон проникал всюду, даже в ванную комнату, назойливо дребезжал, жужжал, досаждал.
- Вот вы едете в этот город выступать, а там есть краеведческий музей, и у них как раз есть те документы, которые мне нужны для очерка, что я пишу, - обстрелял писателя словесной очередью Нищебродов.
- И что?
- Будьте любезны, сделайте для меня ксерокопии. Они это разрешают, я звонил.
Свидерский согласился, хотя еще одно «будьте любезны» его покоробило. «Начальника из себя строит, - думал он. - М-да, зря я у него остановился. Эх, российско-эмигрантское безденежье, на какие компромиссы мы из-за тебя идем…»
Но поехал в подмосковный город задолго до своего чтения, зашел в музей, представился.
- Мы бы и рады вам помочь, но сотрудница, что архивом ведает, сегодня не работает, отгул взяла. А у нас ключа нет. Может, зайдете завтра?
Свидерский попросил позволения воспользоваться телефоном, набрал номер Нищебродова.
- А, ну так оставайтесь там до завтра и добудьте мне ксерокопии.
- Помилуйте, где же я тут останусь?
- Ничего не знаю, везите мне документы.
И положил, стервец, трубку. Свидерский еле удержался, чтобы не выругаться при дамах.
Он уже было собрался уходить, когда кто-то предложил:
- А может, позвоним Анне Евлампиевне, вдруг она свободна и может зайти к нам?
И позвонили. Потом сказали ему:
- Вы в рубашке родились. Она сегодня у зубного врача была и как раз вернулась. Зайдите в пять, она обещала быть. Говорит, за полчаса все вам сделает. А скажите, вы о нашем городе пишете, вам для этого?
- Да нет, я другу обещал, он пишет, - мрачно отозвался Свидерский, думая, как ненатурально звучит слово «друг» применительно к некоторым людям.
И он ушел бродить по розовокирпичному городу, зашел на базарчик, купил гроздь бананов и – за ту же цену – кассету с «Лунной сонатой» Бетховена в исполнении Эмиля Гилельса – наверное, пиратскую.
9.
Бананы успешно подавили урчание в животе, бумаги из музея вскоре заняли место в писательском портфеле. Дальнейшее было плаванием по волнам красноречия в дружелюбном подмосковном зале. Публика была восприимчивая: студенты, молодая интеллигенция.
Вот наконец чтение закончилось, и его автографы кривокрылыми птицами ложились на свежеотпечатанные беленькие книжечки с его фамилией на обложке. Книга называлась «После потопа».
- Мы отпечатали пять сотен экземпляров, - сказали ему. – Оставьте нам сотню, остальные можете забирать, они ваши. Упакованы, в комнате за сценой лежат.
- Спасибо, - несколько растерялся писатель. – А как я их заберу?
- О, возьмите машину. Мы здесь не так далеко от Москвы.
Собственно, книги бы уместились в двух больших чемоданах, но чемоданов как раз и не было. Пришлось грузить в машину пачками, которые с трудом утрамбовались в багажник.
Это была черная «Волга» с антенной внутренней связи. Почему-то больше никто в этот вечер в Москву не ехал, и Свидерский, «голосовавший» на улице, начал уже было отчаиваться, когда остановилась эта машина. Шофер умело надбавил цену, но пришлось согласиться.
И вот они уже катят в Москву, весело разбрызгивая талый снег.
- Интересная у вас машина, с радиосвязью, - заметил Свидерский.
- Да я, знаете ли, полковник ФСБ, - небрежно обронил шофер. – Зарплата хорошая, но деньги всегда пригодятся – семью летом на юг отправить хочу. Потому и остановился.
«А то тебе не на что своих на юг летом отправить», - подумал писатель.
- Скажите, это у вас печатная продукция в пачках? – продолжал водитель.
- Да, программа здешнего фестиваля искусств, - решил проявить осторожность Свидерский.
Он достал из портфеля подаренный кем-то экземпляр программы и показал гэбэшнику.
- Гм, красиво издавать стали. Нам, наверное, тоже экземпляр пришлют. К нам вся печатная продукция попадает.
- И кто-то сидит и все это читает?
- А как же! Мы им зарплату за это платим.
- Хорошая работа, и не особо утомительная, - улыбнулся писатель.
- Ну, не скажите. Скучно это и утомительно – читать. Я вот уже много лет ничего не читал. Вот кино – другое дело, у меня дома видеокассет много.
За разговором подъехали к дому. Полковник честно дал сдачу с двухсот рублей, даже черную железную дверь подъезда придержал, когда Свидерский стал заносить в дом пачки.
Вот наконец все десять пачек внутри дома, у подножья лестницы. Выше на один пролет – возле лифтов – нарисовались три небритые физиономии.
- Эй, ребята, нам на пиво не хватает, может быть, выручите? – прохрипел один из них, самый плечистый.
- Выручим, выручим, - сказал полковник и, обращаясь к Свидерскому, добавил: - Ну, вот, а дальше они вам помогут.
И моментально ретировался.
10.
- Эге, да вы с грузом, - захрипели парняги. – Мы вам сейчас мигом все поднесем.
- Да не надо, я сам могу.
- Как это не надо?
И схватили по три пачки с книгами, понесли их к лифту. Свидерский взял последнюю пачку. Не слишком аккуратно покидав все пачки в лифт, парняги вместились в него бок-о-бок с писателем и, обдавая его перегаром, покатили на восьмой этаж. Там они еще менее аккуратно побросали пачки на лестничную площадку.
- Ну вот, а теперь деньги давайте.
Свидерский достал из кармана пальто и отдал им полученную от полковника сдачу.
- Мало, - заревели небритые рожи, хотя мало не было.
Свидерский порылся в карманах и отдал обступившим его парнягам все мелкие деньги, что там были.
- Все равно мало! – зарычали рожи.
Это уже была наглость. Писатель понял, что если он сейчас достанет бумажник, больше он уже его не увидит.
- А больше у меня нет, - твердо сказал он.
- Как нет? А дома?! Мы вам эти пачки прямо в квартиру занесем, а вы нам денег добавите. Вы в какой квартире живете?
Свидерский понял, что пускать этих в квартиру нельзя.
- Вот в этой, - показал он, - но у меня ключа нет. Я не могу войти.
- А где ключ?
- Ключ у жены, - заявил Свидерский, у которого вот уже лет двенадцать никакой жены не было. – Она с собакой гуляет. Пока не вернется, я не смогу попасть внутрь.
- А мы подождем, - нагло сказали парняги.
- Ждите.
И писатель сел на пачки с книгами, всем своим видом показывая, что он никуда не торопится.
Минут через пять кто-то из парняг сказал:
- Что-то мы вас тут не видели никогда. Вы временно здесь или постоянно?
- Временно, - отозвался Свидерский.
Следующий вопрос был:
- А если мы у вас в карманах пороемся?
- А если я в дверь соседней квартиры позвоню? – в тон вопросу сказал писатель.
- Звоните.
Свидерский встал с пачек, подошел к ближайшей двери и нажал на кнопку звонка.
Через минуту мужской голос из-за двери спросил:
- Кто там?
- Вызовите, пожалуйста, милицию, - сказал Свидерский. – Меня хотят ограбить.
В двери имелся глазок, и Свидерский понял, что его – и обступивших его парняг – разглядывают.
- Сами разбирайтесь, - наконец сказал голос.
М-да, немного от тебя пользы, господин сосед. Но парняги больше поползновений к насилию не делали. Свидерский снова сел на пачки.
- Что в пачках-то? – последовал вопрос.
- Книги.
Писатель надорвал угол одной из пачек и показал книги в связке.
- Кни-и-ги, - разочарованно прогудели рожи.
Очевидно, у писателей терпения больше, чем у подъездной шпаны, которая, тем более, не приложилась еще в этот вечер к бутылке.
Еще через минут пять последовал вопрос:
- Ну где она, жена-то?!
- А кто ее знает… На пустыре с собакой гуляет. Хотите – сходите и позовите ее.
- Не-е. Мы здесь подождем.
- Ждите.
Через очередные пять минут они констатировали:
- Не идет.
- Не идет, - эхом отозвался писатель. – Говорю вам, сходите и поторопите ее. А то мне тут надоело сидеть. Я же не могу все бросить и за ней идти.
- А как она выглядит?
- В шубке она, - пустил в ход воображение писатель. – И собака с ней большая.
- Овчарка, что ли?
- Волкодав, - отрезал писатель.
- Ну, пошли, что ли, - неуверенно переглянулись парняги и, забыв про лифт, стали спускаться по лестнице.
Как только они отошли достаточно далеко, Свидерский тихо открыл бронированную дверь и лихорадочно стал заносить пачки с книгами. Вот все десять уже внутри.
Тут на лестничной площадке послышались шаги. Писатель понял, что тихо запереть дверь не сумеет и потому просто прикрыл ее.
- Извините, вы ключи в двери снаружи оставили, - послышался женский голос.
«О черт!» – сказал про себя писатель и открыл дверь. Действительно, он оставил ключи снаружи. Хорошо, что из лифта вышла соседка, а не те пьянчуги…
Поблагодарив соседку, он заперся изнутри и стал отпаивать себя чаем. Пить чай было трудно, потому что руки дрожали.
Он вставил в старенький магнитофон кассету с «Лунной сонатой» и унесся мыслями в другие времена и пространства.
11.
Есть стихи толстых и тощих, блондинов и брюнетов, стихи написанные водою – и кровью, стихи приснившиеся и стихи, забытые поутру. Последние обычно самые лучшие. Но печатают не их… Однако приятно все же разглядывать и разглаживать свою книгу стихов. Если бы еще опечаток не делали…
А вот и Нищебродов звонит с утра пораньше:
- Ну, как мои ксерокопии?
- Прибыли.
- А ваша книга?
- Тоже уже здесь.
- Ну, тогда я к вам еду.
И приехал вскоре, лысеющий младенец. И уже глазеет своими зенками цвета лягушачьей икры.
- Спасибо за ксерокопии. А можно мне экземпляров десять вашей книги взять, для себя и друзей?
- Конечно, можно.
- А еще, подпишите книги своим друзьям-поэтам, с кем вы не успеете встретиться, а я им отдам. Заодно и познакомлюсь. Мне это пригодится.
- Тоже можно, - сказал Свидерский.
Лысеющий младенец открыл книгу, стал листать, нахваливать стихи.
- Вот это опасное, - вдруг уткнул он палец в какую-то страницу. – У вас неприятности могут быть.
- А что такое? – удивился писатель.
- Вы тут про президента нашего пишете: «Худощавая фигурка в мышиной мантии и милицейской фуражке». Вдруг он обидится?
- Про президента не писал, не знаю, вы его тут без меня выбирали, с предвыборными фейерверками и фугасами... Я вообще-то пытался угадать, кто будет вскоре править Россией, да и давно это написано, не при этом президенте… А что, похоже?
Лысеющий младенец причмокнул щечками, что можно было понять как утверждение.
- Во всяком случае, никаких имен я не называл, так что все это из области предположений.
- Да, конечно, - легко согласился младенец. – Да, кстати, доехали-то с книгой благополучно?
Свидерский рассказал про свои приключения.
- А-а, это мои друзья детства. Они тут через день у людей мелочь выпрашивают.
- И этим людям угрожают?
- Ну, пока никто на них не заявлял. И вам не советую, тем более что вы живете за рубежом. Подозрительный иностранец – вот кто вы для них. Между прочим, вы должны оформить временную прописку и каждые три дня в милиции отмечаться.
- В моей родной стране?! – возмутился писатель.
- Многие этого не делают, и ничего, сходит с рук. Но если вы с жалобой придете, все обнаружится.
- А вы, жильцы этого дома, считаете, что вымогательство в подъезде – нормальное явление? И милиция так считает?
- Ну, у милиции много других дел. Вообще-то каждый из этих троих отсидел короткий срок за мелкое хулиганство, но это было давно. Поговаривают, что они квартирными кражами занимаются, но их пока никто не поймал. У нас тут у всех металлические, а то и бронированные двери, это помогает. У всех в Москве теперь укрепленные двери.
- Хорошенькие у вас друзья детства, - покачал головой Свидерский.
12.
Вечером проснулся телефон, вырвав писателя из телевизионного полусна.
- Господина Саковича можно?
- Он сейчас по другому адресу живет. Вам дать номер телефона?
- Да знаю я, знаю этот проклятый номер. Он никогда не берет трубку, родителей посылает, а если они догадываются, что это я, то говорят, его нет дома.
- А что, у вас что-нибудь срочное?
- Срочное? Да это всегда срочное. Деньги нужны. Я сын мамы.
- Вы… кто?!
- Ну да, сын мамы. Сакович на моей сестре женился несколько лет назад, ей тогда восемнадцать только исполнилось. У них ребенок маленький. Потом они развелись. Он обещал деньгами помогать, но частенько забывает. И до него не доберешься.
- Может, у него у самого денег нет? – предположил писатель.
- Да у него и отец, и мать на высокооплачиваемой работе, и сам он как переводчик неплохо зарабатывает. Нет у него денег, как же!
- Я ему скажу, что вы звонили.
- Да, уж пожалуйста. Я обычно, когда уж совсем припирает, родителям его звоню. Их если разжалобить, они дадут денег. Но это не так часто бывает.
- Будем надеяться на лучшее, - сказал Свидерский, потому что надо было что-то сказать.
Как всегда, он сел работать перед сном. Вскоре его отвлекли какие-то странные звуки на лестнице. Он чертыхнулся и пошел смотреть, что там творится. В глазок он увидел: под знаменитой бронированной дверью сидит тощая серая крыса и грызет дерматиновую обивку.
13.
На следующий день Свидерский зашел в книжный магазин по соседству, купил кое-какие книги – с собой в Германию. Издались лекции Набокова, эссе Бродского, проза Сапгира.
Еще Свидерский купил газеты. «Книжное обозрение» упомянуло его книгу в библиографическом разделе, а его имя – в ксенофобской заметке одного псевдопоэта о нерусских фамилиях, засоряющих великорусскую словесность.
«Независимая газета» дала короткую заметку о книге за подписью Я.Савич. Это явно был не Сакович, а Сакевич. Свидерский подумал: наверное, очередная Катя на машинке печатала перед тем, как он отослал, он любит давать им маленькие поручения. Заметка начиналась так: «В буфете Дома Литераторов об этой книге говорят». И дальше: «Приятно, что поколение, к которому принадлежит и автор этих строк, выходит на передовые рубежи поэзии». «Интересно, какое же это поколение? – усмехнулся про себя Свидерский. - Я этого бледнолобого на шестнадцать лет старше. И с кем это он там говорил о моей книге? Со своей Катей, конечно, только, может быть, уже с новой? Кажется, визит в цедеэльский буфет был обязательной частью "дебютной стадии", по его собственному выражению. Но Бог с ним, хорошо хоть, не обругал».
В «Литературной газете» просто написали: «Стихи для западного потребления». Отстранили, как бы, по месту прописки послали. «Просто это у них получается, - ворчал Свидерский. - Можно подумать, стихи – это пирожки, где продаются, там и съедаются. Набокова и Бунина переваривайте на Западе, Пастернака и Ахматову – на Востоке. А если наоборот – несварение будет, заворот мозгов. Ну, а лет через пятьдесят разберемся, выудим для вас кого-нибудь забытого. Будет вам и Набоков, будет и Георгий Иванов – когда их самих давно уже не будет».
По-настоящему же обругала его малотиражная газетенка «Литературное бытие Москвы», редактируемая той самой «М. Кузькиной»: «На днях выступил с чтением своих стихов поэт Свидерский, литературная продукция которого самостоятельного значения не имеет. Вчера же в гей-клубе "Арест и Пилат" были прочитаны гениальные тексты, состоящие всего из трех-четырех фраз. За неимением места приведем только один образчик: "Эй, Прыпрыгов, ты хочешь написать две тыщь стихов? Это круто, но устарело. Мы тебя перепрыпрыгнем, мы напрыгаем двадцать две тыщ, и гораздо изячнее. Вот так-то, П.П." В конце вечера было объявлено, что готовится антология подобных текстов и их прямых литературных предшественников, как то миниатюры Тургенева, Горького и Хармса. Таким образом, параллельный мир нашей литературы выходит наружу и становится в ней прямо-таки единственным». Рядом был отчет о двух как бы равноценных событиях: презентации новой книги Маканина и чтении своих опусов где-то в районной библиотеке молодым человеком из подмосковной Малаховки, который «избавился от извечного страха перед ненормативной лексикой и работает на грани анекдота».
«Вот и «параллельные миры нашей литературы» всплывают на поверхность, - усмехнулся Свидерский, - а прорубь-то маленькая, другим, не параллельным мирам можно и не давать всплыть. А мне еще задавали вопрос, почему русские писатели уезжают… Нас выдавливают из литературы, из страны, сводят с ума, а потом наши психиатры на Западе пишут о нас книги: «Прыжок в безумие» и тому подобное, зарабатывают деньги. Такой вот коллективный «прыжок в безумие».
Вечером он отправился знакомым маршрутом по литературным, полулитературным и вовсе не литературным трактирам. Конец вечера потерялся в московском желтофонарном тумане.
Ночью он видел в зеркале себя, но старого и одетого в рванину. Отражение глянуло на него неодобрительно, погасило свет и вышло.
Он пошел следом. Он шагал по этому берегу Москвы-реки, отражение – по тому. Потом отражение шло по тому берегу, а он – по этому.
В очередной раз меняясь местами, они встретились на дне. Отражение держало в руках аквариум, где плавала маленькая подводная лодка. Матросы весело махали руками писателю и кричали: «Иди к нам!» М-да, констатировал он во сне, на московском дне свои представления о масштабах личности.
Наутро суровый приятель-драматург, виденный им мельком в самом начале вечера, спросил его по телефону, оторвав от только начатой главы:
- Ну, как было вчера?
- Успешно. Исказил.
14.
Упомянул жену – она и появилась, в шубке, только без собаки. Собаки не было никогда, был кот, да и тот погиб на кошачьей дуэли. Правда, и звали кота Пушкин. Нет, кот был еще до него, Свидерского. «Давно, выходит, – мы ведь уже двенадцать лет в разводе!» Но узнал, узнал на улице, то бишь у выхода из метро на станции «Проспект мира», в толчее выхватил из людского потока. Как раз и книжка стихов в портфеле оказалась, подписал летуче, подарил.
- Я прочитаю и тебе позвоню.
- Я скоро уезжаю.
- А я очень быстро прочитаю.
И разбежались
Но прочитала, действительно, быстро, и восхищалась, потом сказала: «Я буду тебе помогать».
Надо быть очень хорошим человеком, чтобы тебе помогали бывшие жены! Потому что мужчин у женщины – как эпох у истории или геологических периодов у природы. Проползает ледник – а потом все расцветает в других очертаниях ветвистости. Воскресает в другом климате. Под другим именем. Иногда под другой фамилией.
- Слышал новость? – спросила жена по телефону. – Мотя Кузькина секретаря союза писателей затравил.
- Это что, шутка?
- Какая там шутка! Начал с двух погромных фельетонов в своей газетенке, а потом пришел на собрание союза писателей, вышел к микрофону после доклада и такое понес! Секретарь вечером взял да и брякнулся с инфарктом, он уже человек пожилой. Короче говоря, послезавтра хоронить будут.
- Какого это секретаря он затравил? – подозрительно спросил Свидерский. – Какого такого союза? У нас теперь их два.
- Демократического, представь себе, - сказала жена. - Нет чтобы какому-нибудь русскому нацисту кузькину мать показать…
- Что ты, с нацистами ссориться не модно, да и что он от этого выиграет? А тут можно своего человека протолкнуть. Глядишь, и сам скоро секретарствовать будет, он такой.
- Кстати, он не только нападать умеет, он теперь прогрессивного журналиста защищает – которого травят.
- Это кого же?
- Того, который тебя в ксенофобской заметке пропесочил.
- Правильно травят, - сказал Свидерский.
- Нет, ты не понимаешь. Прогрессивные журналисты «Книжного обозрения» выбрали его главным, а владельцы газеты не согласились с их выбором. Вся демократическая общественность поднялась на его защиту. Почитай газеты. ПЕН-центр за него вступился.
- Но он же фашист!
- Что ты, он у нас демократом считается. С Евтушенко когда-то дружил. Правда, теперь все больше с национально-мыслящими якшается, на митингах нацистской партии неоднократно замечен. Ему был предложен пост пресс-секретаря этой партии, и никто не знает, согласился ли он.
- Я начинаю любить других, не прогрессивных журналистов этой редакции, которые за него не голосовали.
Жена засмеялась.
Свидерский попросил ее приютить его книжки. Он хотел взять с собой экземпляров двадцать; что делать с остальными, было непонятно. Крупные книжные магазины поэзию не брали вообще, не выгодно. Свидерский отнес по двадцать экземпляров в некоммерческие магазины, которые еще назывались салонами или книжными клубами. Вот она, поэзия, она же и проза – таскаешь в рюкзаке свои собственные книги на продажу – за гроши.
Жена сказала: книгам всегда найдется место, но сейчас ремонт и нельзя ли через две-три недели? Свидерский спросил Нищебродова.
- Книги? – поднял брови тот, что можно было угадать даже в телефонном разговоре. – Ах да, книги. Ну что же, если ненадолго…
А значит, можно уезжать в свое никуда. И не задыхаться больше в полупрозрачном болоте московского полувоздуха, и не месить вечную слякотную грязь.
- Хочешь я тебя провожу до вокзала? – спросила жена.
- Вы берете такси? Я с вами поеду до вокзала, - заявил Нищебродов.
Утром появились почти одновременно, и, удивительно, обнаружилось, что не знают друг друга, пришлось знакомить.
Прикатило вызванное по телефону такси. Свидерский ухватил самый тяжелый чемодан и сумку с продуктами – предстояло два дня прожить в автобусе. Второй чемодан взяла жена. Нищебродов замыкал процессию – с пустыми руками.
Вышли из лифта. Выше на один пролет лестницы жались к стене у мусоропровода трое достопамятных пьянчуг.
- Пойду поздороваюсь, - сказал Нищебродов, и был встречен с троекратной радостью.
Тем временем писатель с женой волокли чемоданы к такси, с трудом разместили их в багажнике.
- Ага, вы уже погрузились, отлично, - прокомментировал появившийся минут через пять Нищебродов. – Ну, поехали.
Такси песчинкой всосалось в гигантский водоворот площади трех вокзалов, и еле нашлось место, чтобы остановиться.
- Ну, вижу, что вы таки уезжаете, - сказал Нищебродов.
15.
Прошла неделя. Свидерский возвращался с прогулки в параллельном самому себе немецком парке, когда в боковом кармане его куртки заерзал мобильный телефон.
- Неприятности у меня, - проскрипел нищебродовский голос. – Мою квартиру, где вы жили, вчера ограбили.
- В самом деле? Сочувствую, - несколько удивленно сказал писатель. – А что пропало?
- У меня там были ценные вещи, - заявил Нищебродов.
Свидерский представил себе обшарпанную нищебродовскую мебель, но ничего не сказал. Кто знает, может там где-то был тайник?
- Дверь квартиры оказалось очень легко открыть, - продолжал Нищебродов.
- Автогеном, что ли? – не удержался писатель.
- Гм, они, кажется, ключи подобрали. Соседка говорит, вы постоянно ключи в дверях оставляли…
- Вы что, меня обвиняете? – возмутился писатель.
- Да, ключи оставляли, - плаксился лысый младенец, - и пьянчуг с лестницы в квартиру пускали.
- Никого я не пускал. Что за бред!
- Да, пускали, и они замки изнутри видели. Из-за вашей преступной небрежности я понес убытки.
- Да как вы смеете?! Какая еще преступная небрежность?
- Да, преступная небрежность, - ябедным голосом продолжал Нищебродов. – Я считаю, вы должны компенсировать убытки. Четыреста долларов будет достаточно. Ваша бывшая жена звонила, и я сказал ей, что не отдам тираж вашей книги пока не получу денег.
- Ага, так это шантаж, - сахарным голосом сказал Свидерский. - Не знал, что вы на такое способны. Можете быть уверены, что вы от меня ничего не получите. Я шантажистам не плачу.
- В таком случае я уничтожу тираж вашей книги. Вынесу во двор и сожгу.
- Экземпляры моей книги, что у вас хранятся, принадлежат мне. Это моя собственность, и если вы ее преднамеренно уничтожите, вы будете отвечать перед судом.
- Вы думаете, они принадлежат вам? – с удовольствием причмокнул Нищебродов. – А вы знаете, что они официально изъяты? Я вчера имел разговор о вас в соответствующих органах, и они вами очень интересуются. Помните, я говорил вам, что у вас будут неприятности с вашей книгой?
- Хм, догадываюсь, кто мне эти неприятности устроил… И насколько регулярно вы эти соответствующие органы посещаете?
- Это мое дело. Вам достаточно знать, что официально тираж книги изъят и должен храниться на Лубянке. Но они мне доверяют и оставили тираж у меня. Так что высылайте мне деньги, а то вы вашу книгу больше не увидите. Мне намекнули, что они будут только рады, если тираж книги исчезнет.
- Насчет денег я вам уже все сказал, а там делайте все что хотите. Представляю себе члена Союза Писателей, сжигающего книги.
- Да никто об этом и не узнает. Кому какое дело? Так что подумайте.
И дал, мерзавец, отбой.
16.
Но не знал младенец Нищебродов, что писатель Свидерский в подобных случаях превращается в писателя Свирепского. Никто не узнает?! Ну, это мы еще посмотрим.
Надо сказать, звонить по телефону Свидерский не любил. Звонишь, конечно, по-всякому, но в трубке всегда живет тишина. Набираешь номер – а там пустота, и в ней иногда кто-то копошится, разговаривает муравьиными голосами. Тишина порою сразу отсекает искомого человека: нет его, дескать, и номера такого нет. Свидерский однажды слышал тишину, которую никто никогда не слышал. Он звонил одному старому писателю, который жил в самом сердце Москвы, но писал на иврите. Он давно с писателем этим не разговаривал и даже не знал, жив ли тот еще, когда набирал его номер. Вслед за этим в трубке воцарилась библейская тишина. Особенная тишина – такую слышно, наверное, в песках земли Нод, в покинутом храме Иерусалимском, в сердце праведников. Свидерский долго слушал эту тишину, она жила в трубке, переливалась в него, затопляла его сердце. Потом трубка как-то сама легла на рычаг… И он никогда больше не осмеливался звонить туда еще раз.
Но охота пуще неволи, гнев – лучший побудитель к действию, и писатель понял, что хочешь, не хочешь, но сейчас, в эту самую минуту, надо из своего молчания выходить. И потекли в немецкие телефонные автоматы пфенниги и марки, монеты полегче и потяжелее. И люди на том конце провода говорили: «Ай-яй-яй, что же у нас такое творится?!»
А директор ПЕН-центра сказал:
- Ученик? Хорошеньких же вы себе учеников выбираете… Его телефон есть в писательском справочнике? Я с ним поговорю. Тоже мне Герострат нашелся, книги сжигать ему хочется… Опозорит нас на всю Европу. Позвоните мне завтра.
И завтра было сказано:
- Я с ним говорил. Спросил, есть ли у него официальная бумага, подтверждающая, что тираж книги изъят? И если такой бумаги нет, то адвокат ПЕН-центра хочет знать, на каком основании удерживается тираж книги? Он, кажется, сдрейфил. Сказал, что это ошибка, что он как раз хотел вернуть тираж книги, но не знал, кому. В общем, пошел на попятный. Но вообще, не нравится мне эта история и не нравится мне этот человек. Я его не видел никогда, но голос выдает: подлец. Не знаю, на кого он работает, у нас все теперь говорят, что работают на компетентные органы, это считается очень патриотичным.
«Что же, спасибо, - думал Свидерский. - Не рассчитывал, особенно после истории с поддержкой «прогрессивного журналиста-фашиста», который, кстати, тоже член Союза Писателей! А наш ПЕН, кажется, защищает писателей всех мастей, убеждений и предубеждений».
17.
«Почему я ничего не замечал? – размышлял вечером Свидерский. - Потому что этот Нищебродов был… нет, не скрытный, скорее, молчаливый. Молчал и молчал, и мог бы за порядочного человека сойти. Наши беды начинаются когда мы раскрываем рот...»
На следующий день – по телефону – бывшая жена:
- Знаешь, он отдает книги. Не знаю, как ты это устроил, но гениально. Я завтра поеду забирать.
- Возьми кого-нибудь в помощь, - сказал Свидерский. – Я, пожалуй, друга попрошу, он приедет и тебе поможет. Да, у меня там с книгами две большие папки с рукописями, я забыл их взять. В одной экземпляр моего романа, в другой архивные материалы, рассказы Федора Сологуба и Андрея Белого, которые никогда не публиковались. Я хочу их прокомментировать и подготовить к публикации.
- Конечно, возьму, - ответила жена.
В предвесеннем воздухе запахло победой, что ароматизировала воздух глазированными булками из соседней кондитерской и краской из ремонтировавшегося поблизости дома.
- Книги уже у меня, - вскоре позвонила жена. – И папки тоже. Но я посмотрела, там внутри все в полном беспорядке, многих страниц не хватает, в том числе и в текстах Сологуба и Белого. Кто-то хорошо в этих папках рылся.
- И как же этот стервец это объясняет? – поинтересовался писатель.
- Говорит, грабители рылись. Якобы, деньги искали.
- Гм, боюсь, что эти грабители на государственной службе и даже погоны носят.
- Да, темная история, - сказала жена. – Жалко, архивные материалы пострадали.
18.
Бессобытийно прошел месяц, и в конце его пришел е-майл от бывшей жены. Никаких особенных новостей, нового секретаря демократического союза писателей выбрали, взамен затравленного, и он теперь вечера русской поэзии в доме литераторов устраивает. Поэтов татарского и еврейского происхождения выступать на этих вечерах не приглашают. Когда у секретаря времени не хватает, Мотя Кузькина, в качестве его добровольного помощника, вечера ведет, он, как известно, дама инициативная, его недавно на премию за организационный вклад в русскую словесность выдвигали. Ты не знаешь, что конкретно он в нашу словесность вложил?
Клик, клик – и Свидерский попал на сайт, называвшийся «Все русские писатели современности». Вездесущая Мотя Кузькина в писателях современности числила членов своего параллельного мирка. Для приличия было добавлено некоторое количество известных авторов; остальные были как бы невзначай пропущены.
«Вот она, инъекция другой реальности в реальную реальность, - подумал Свидерский. И ведь, чего доброго, привьется, и в Европу мохнатым корнем прорастет...»
Добравшись до конца страницы, он проникся уважением к своим предсказательным способностям. Там мелким шрифтом было написано, что автор сайта, идя навстречу пожеланиям зарубежных филологов, намеревается сделать версии этого полезного интернет-ресурса на основных европейских языках.
19.
В понедельник, день почтовый, в почтовом ящике белел конверт, на котором узнался почерк приятеля из Москвы, известного поэта.
«Дошел до меня слух, что у вас произошло недоразумение с г-ном Саковичем. Это весьма прискорбно. Два таких уважаемых человека, столько сделавших для нашей литературы… Как же вы не нашли общего языка? У вас сильный характер, сделайте первый шаг, примиритесь».
«М-да, - думал Свидерский, - вот грабитель собирается меня освободить от бумажника, уже залезает ко мне в карман, но тут в конце проулка полиция вырисовывается. Грабитель делает вид, что он меня обнимает и неспешно удаляется, насвистывая удалую песенку. Выходит Уважаемый Гражданин и адресуется к обоим: «Как прискорбно, что у вас произошло недоразумение! Поднимитесь выше обстоятельств, пожмите друг другу руки. Как же вы не нашли общего языка?»
Писатели, надо знать, люди опасные: то, что они думают, на бумагу порой попадает. Вот и мысли Свидерского примерно в том виде, как они его посетили, попали на линованную почтовую бумагу, потом в конверт, который без всякой ненужной почтовой спешки был в течение трех недель доставлен из Германии в Москву. Известный Поэт обиделся и замолчал.
20.
Худшее в кошмаре не его близость к реальности, а продолжительность, потому что это плаванье в тумане, без берегов. «Блажен, кто умеет забывать, - думал Свидерский. – Учили бы нас этому в школе, что ли...»
На следующей неделе ему позвонил главный редактор толстого журнала, где должен был выйти его новый роман.
- Извините, не могу оставить его в номере, - проскрипел старческий голос.
- Но ведь номер уже в типографии, - удивился писатель.
- Ну, они еще не начали печатать. Я вынужден роман изъять.
- Вы вынуждены? Кто же вас вынуждает?
- А вы вспомните, кто у вас в романе отрицательный герой. Не ко времени, батенька, не ко времени.
Отрицательный герой в этом романе был сотрудником КГБ.
«Все по-прежнему, - думал писатель, ворочаясь в попытке ввинтиться в сон. - Попал под лошадь. Как Остап Бендер. Вопрос только, почему в нашем доме лошади по комнатам свободно бродят и людей давят. Или то призраки лошадей, а может, бизонов из легенды о диком советском западе? Очень вещественные призраки, если надо кого-то давить. А дернешь за хвост – ничего нет, одно лишь сгущение неаппетитно пахнущего воздуха или некоей сгустившейся жидкой субстанции. Как этот Нищебродов – попробуй ухвати такого за хвост… Какой же садок медуз наше писательское сообщество!»
И его серый русский кошмар наконец развеялся, уступив место черно-белой германской определенности.