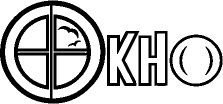
ИГОРЬ ЗОТОВ (МОСКВА)
Болеро
(РОМАН В ДВЕНАДЦАТИ РАССКАЗАХ)
I. Не рожу - не умер
1.
Бывший следователь, недавний адвокат, а ныне пенсионер и
писатель-дебютант Виталий Абрамович Прахов спускается в метро.
Настроение - хуже некуда: вчера минуло три месяца, которые он положил
себе на ожидание. И ничего: ни из одной редакции ответа нет. Это крах.
Три месяца назад Прахов закончил последний из десятка рассказов,
разослал их порознь в журналы, а все вкупе - в издательство. Впустую.
Прахов тщится понять - почему? - и не понимает. Разве какие-нибудь
литературные знаменитости, головные, реальной жизни не нюхавшие, не
имеющие и толики его криминалистического и адвокатского опыта, все эти
Гришковцы, Акунины, Пелевины, и еще вот какие-то там - пишут лучше?
Знают, видели воочию, пережили, пропустили сквозь себя столько
жизненных драм и трагедий? Ничуть.
Прахов эти три месяца потратил нарочно на изучение текущей словесности
(он-то всю жизнь читал одну классику) и понять не может, отчего этих
печатают, а его - нет? Отчего то, что вымышлено и никогда не бывшее,
ценится дороже, чем то, что он наблюдал собственными глазами, переживал
собственной душой, в чем принимал немалое, а порой и решающее участие?
"То знание ценно, которое острой иголкой прочерчено по душе, - написал
Розанов (Прахов его как раз только-только перечитал) и добавил:
...фантазировать, творить еще можно: но ведь суть литературы не в
вымысле же, а в потребности сказать сердце..."
А Прахов уверен: лично он только и делал, что говорил свое сердце.
Непонятно.
Нельзя сказать, что писатель Прахов уж вовсе новичок в литературе.
Отнюдь: еще и двух лет не прошло, как он дебютировал, вышел у него
целый роман(ище) - огромный, на шестьсот с лишним страниц даже после
нещадного сокращения - под названием "Красное на красном", который
писался без малого семь с половиной лет. Начал его, еще служа в
адвокатской конторе, а закончил уже на пенсии.
Прахов, если угодно, и на пенсию-то вышел ровно в срок, чтобы роман
дописать, настолько вжился в него, такой зуд писательский на себе
ощутил. Сперва-то стряпчий подозревал (отметим это не без уважения),
что зуд этот - графоманский, но перечитал первые главы сам, дал
друзьям, знакомым - и все отозвались в тонах восторженных.
Во-первых, сказали: слог отменный, "почти бунинский" (это по одной
версии) или "почти селинджеровский" (это по другой). Во-вторых - сюжет:
все взаправду. Жизнь-то куда изобретательнее вымысла. Аксиома! И то: к
чему хоронить богатейший опыт в судебных архивах? Ни к чему.
Между тем, настоящая фамилия Виталия Абрамовича - Липкин. Скрыться за
псевдонимом он решил по двум причинам. Первая: чистота эксперимента.
Чтобы не подразумевался под писателем достаточно известный в
правосудных кругах адвокат, а, следовательно, чтобы не получить
дебютантского снисхождения от специалистов и кривых усмешек от бывших
коллег. Вторая (вполне иррациональная) причина: еврейская фамилия. Она
казалась отчего-то Виталию Абрамовичу непригодной в писательском
ремесле - чего доброго наткнешься на антисемита в редакции или среди
титульных читателей. А отчество на обложке не значится, отчество можно
и опустить. Правда, евреем-то он был не более чем на половину, однако с
неудобствами сталкиваться в адвокатской практике приходилось: клиенты,
случалось, выказывали недоверие, вменяли, бывало, хитрость да жадность.
Хотя кого-кого, а Виталия Абрамовича хитрым да жадным назвать нельзя.
Совестлив, бережлив, да, но никак не хитер, не жаден. Порой же внезапно
по-русски и расточителен. К псевдониму своему за эти годы привык
настолько, что бывает на мгновенье и замешкается, когда кто-нибудь по
старинке обратится к нему по настоящей фамилии. Вжился в образ.
Адвокатскую карьеру начал по зову сердца и во времена отнюдь не
адвокатские, когда эта профессия слыла в обществе вопиюще буржуазной.
Но Прахов-Липкин рискнул. Тем более что до этого несколько лет
проработал следователем, опыта набрался, изнанку жизни изучил во всех
ее швах и прорехах. Он и в следователи-то пошел по мотивам самым
романтическим - зло выявить, разоблачить и уничтожить! Однако понял со
временем, что зла, сколько его не уничтожай, не только не убавится, а и
напротив - приумножится. И тогда, поразмыслив хорошенько, решил зайти,
так сказать, ему в тыл. Приобретя публичность, Виталий Абрамович, тем
не менее, за внешним эффектом не гнался, дешевой патетики гнушался, был
терпелив, скрупулезен, с клиентами и их родственниками честен и
щепетилен. И репутацию имел отменную.
Впрочем, тщету адвокатскую, как и прежде - сыскную, познал скоро.
Человеческая натура и с тыла выглядела столь же неприглядной и
непредсказуемой, что и с фронта. И впал Виталий Абрамович в полный и
окончательный пессимизм, а следом, и уже до самого конца своего
адвокатства - в печальное почти-безразличие.
Был такой случай в его еще следовательской практике, в середине 70-х.
Судили парня, обвиненного в изнасиловании и убийстве своей бывшей
одноклассницы, оказавшейся к тому же на втором месяце беременности.
Дело плевое - ни одной улики следствия опровергнуть невозможно. Совпало
ли так, или подстроено было настоящим убийцей - неизвестно, только
светил парню расстрел. А тот и не думал сопротивляться, за жизнь не
цеплялся вопреки искренним, но, разумеется, робким потугам Прахова. (В
ту пору адвокатам участие в предварительном следствии было запрещено, и
Прахов тайно взял на себя обе роли, и следователя и защитника - полная
ведь шизофрения!). Парень ничем Прахову не помог, ничего из
следственных выводов не опроверг, да и вообще впал в прострацию, в
ступор - молчал, кивал, и лишь время от времени тихо, но упорно
повторял следователю, навещавшему его в Бутырке: "Я ее не насиловал, не
убивал, я ее любил". Одну эту фразу. Прахов же все тянул, тянул с
передачей в суд, расспрашивал тщательно, методично - а вдруг парень
проговорится, что-то вспомнит, какую-то мелочь, хоть зацепочку.
Впустую: на вопросы тот отвечал односложно, лишь в конце разговора
произносил неизменным автоматом: не насиловал, не убивал, любил. Хоть
ты тресни!
Гипотезы типа: "Ты вспомни, может, ты позже пришел, ну хоть на пять
всего минуточек? А? Ты себя не жалеешь, так хоть мать пожалей, ей после
тебя - разве жизнь? Вспоминай, вспоминай!.." - ни малейшего воздействия
на парня не возымели. Не насиловал, не убивал - любил.
Дело дошло до суда и парню предоставили, наконец, защитника - девушку
робкую, меньше года всего как со студенческой скамьи. Прахов ей про
свои сомнения поведать не решился, сказал только, что вот, дескать, все
отрицает.
На суде адвокатесса говорила с горячечным пафосом: клиенту своему
верит: не может убийца этак, ничего в деталях не отрицая, все
подтверждая, тем не менее, четыре месяца подряд талдычить - не
насиловал, не убивал, любил. Бывают же - редко, но бывают! -
трагические совпадения, когда дело идет на минуты, даже на секунды,
которые доказать нельзя, но тем не менее...
Статья 102, пункты е), г) и ж). Расстрел.
Виталий Абрамович вышел из здания суда, сел в машину, погнал прямиком
на дачу - далеко, под Калугу. За сутки, практически не выпуская из рук
лопаты - до кровавых мозолей - выкопал под домом погреб. Только после
этого доехал до ближайшей почты, позвонил жене, чтобы не волновалась -
а та уж все морги-больницы обзвонила. Вспоминая время от времени свою
землеройную истерику, он умудрено усмехается: это ведь я себе тогда
могилку рыл, своим иллюзиям мудацким...
Через год с лишним, когда все апелляции были отклонены и приговор
приведен в исполнение, выяснилось (при расследовании другого дела и
другим следователем), что расстреляли действительно безвинного. И да,
счет шел на минуты. В которые убийца зашел через раскрытый балкон и
совершил акт беспримерной ревности. Вины следователя тут не было
никакой, но Виталий Абрамович тяготился безмерно. Набрался мужества,
позвонил адвокату невинно убиенного с просьбой "ну чисто
по-человечески" похлопотать о скорейшей реабилитации парня хотя бы в
утешение того одинокой матери.
Эти события вдрызг разворотили праховскую душу, послужили решающим
поводом для его обращения в адвокаты.
Надо же было такому случиться, что одним из первых серьезных испытаний
его на новом поприще стало знаменитое дело "ховринского маньяка",
которому и в адвокате-то по причине его беспримерной кровожадности,
поначалу было отказано. Вот именно ему-то посвятил свой первый и
единственный роман(ище) - этакий запоздалый крик адвокатской души -
Виталий Абрамович.
Прежде всего, это была далеко апостериори попытка разобраться в
собственной душе, раскопать в нанесенном на нее жизненном иле
изначальную суть, а заодно назначить смысл профессии, которой отдал он
почти всю жизнь. Неискушенный в литературном промысле автор перемежал
описания жутких и одновременно обыденных преступлений маньяка
философскими отступлениями, экскурсами в историю криминалистики, и пуще
того - в историю всемирную, в религии, в философии и прочие
запредельные материи. Не мог бывший адвокат устоять перед искушением
порассуждать, домыслить, сделать выводы в назидание современникам и
потомкам, последовательно проводя в своей книге именуемую им самим
"идеальную линию защиты", когда ни прокурор, ни адвокат, ни судебные
заседатели не ограничены ни временем, ни образованием, ни интеллектом.
Роман получился многословным, затянутым, рыхлым, а авторская позиция -
вопреки праховским намерениям (вот парадокс!) - сугубо традиционной,
просвещенческой, да что там - банальной. Ее, если в двух (пяти) словах,
можно было бы выразить следующим, изобретенным Праховым каламбуром:
Господь Бог предполагает, человек - располагает.
Разумеется, Прахов сам бы не сумел объяснить, как это получилось. Он-то
прекрасно отдавал себе отчет в ущербности собственных позитивистских
выводов, но одно дело - в голове, а иное - на бумаге. На бумаге
отчего-то выходило все не так, бумага властно диктовала свои условия, и
любое им неподчинение оборачивалось фальшью, не заметить которую было
невозможно. Когда думаешь про себя - это одно, а когда пишешь наружу -
несет тебя, несет, и неизвестно, где и когда вынесет.
Сам по себе здоровый позитивизм Праховым отнюдь не отрицался, но в
душе-то он слишком хорошо понимал: человек из этих рамок лезет во все
щели, что перекисшее тесто из кастрюли, стоит хозяйке отвлечься на пару
минут. Но вот в какой именно момент это происходит, он упустил.
Роман(ище) про маньяка, в течение трех лет державшего в ужасе население
спального Ховрина, сам он назвал на первый взгляд странно - "Болеро".
Это заглавие пришло случайно: по радио в машине услышал равелевскую
пьеску и поразился тому, как точно она ложится на судьбу его героя, да
и не только на его, а и вообще - этаким глобальным манером - на все
судьбы всех людей. И то: одно и то же, в разных вариациях, но одно и то
же, одно и то же, и все напряженнее это одно и то же, все трагичнее,
все стремительней безумный танец по кругу - и вдруг гениально
внезапный, ни на что не похожий финал - смерть.
Финал поразил Прахова особенно. Сколь не похож он был на бесчисленные,
напоминавшие Виталию Абрамовичу половой акт некоего полуимпотента,
финалы тьмы классических симфоний и концертов, когда композитор и так,
и этак, а музыка все не кончается, оргазма все нет и нет; он и туда
повернет, и сюда, и близок, кажется, последний аккорд-эякуляция, ан,
нет - еще движение, еще аккорд, еще, еще, а все вкупе - нудно,
бессмысленно. Безобразно.
Семен Псов (что это, в самом деле: фамилия для маньяка или маньяк для
фамилии?), насиловавший-убивавший девушек-женщин-в-красном (будь те в
пальто этого цвета, или в брючках, или в одном только шарфике),
возбуждал в адвокате такие мысли: вот изнасиловал он свою жертву, но
ведь спустя всего каких-то полчаса - желание вернется. И что тогда -
идти насиловать-убивать новую? Зрелый мужчина может производить от
одного до десяти (или сколько там?) половых актов в день. Это ли не
болеро? Отчего животные совокупляются лишь с целью продолжить род, а
люди готовы делать это постоянно, и делали бы, если бы не нужно было
добывать пропитание. Загадка загадок. Отчего так убога, так
бессмысленно устроена человеческая природа? В своей книге
новоиспеченный писатель делает такую вполне сомнительную экстраполяцию:
маньяки - все поголовно, поскольку все испытывают ту же безмерную
неутолимую похоть, что и Псов. Псов же уникален лишь тем, что
артикулирует это бесстрашно.
А вот реальный прототип Псова - матерый убийца Василий Иванович
Беспалый, в отличие, скажем, от того юного, потерянного и
расстрелянного неубийцы, за себя стоял твердо: не насиловал, не убивал,
ничего не знаю - улики поддельные, виновного сыскать не умеют, вот и
валят на меня, Опознали? Ну, еще бы - во тьме кромешной опознать,
ха-ха! - дело нехитрое. Отпечатков никаких. Алиби? - да мало ли где я
был! Что ж я все должен помнить? В экспертизы не верю - все подстроено,
все от милицейского произвола. Дело торопятся закрыть, иначе выговор,
уволят, потому и "лепят горбатого", то есть то, чего никогда не было и
быть не могло. Был Беспалый не в пример Псову - человеком жестким,
циничным, злым. Представить в реальной жизни на месте этого серийного
убийцы кого-то другого Прахову никак не удавалось, хотя и очень
хотелось. И потому нафантазировал он невесть что в своем роман(ищ)е,
находульничал. И вот теперь сравнивал, и к стыду своему сознавал, что
образ Псова он не в меру усложнил, романтизировал, демонизировал, тогда
как Беспалый - прост, как гвоздь, и при этом - парадоксально
непознаваем...
Сознавал теперь Прахов еще и то, что примени он в жизни свою "идеальную
линию защиты" из романа (с философскими и религиозными экскурсами да с
нескончаемой цитацией классиков) сочли бы его умалишенным. Причем, не
только и не столько судьи, а главным образом - свои же
коллеги-адвокаты.
В жизни же все было совсем иначе: защиту адвокат Беспалого построил на
банальных фактах тяжелого военного детства обвиняемого, на раннем
сиротстве, на бесприютстве. Ни о каком снисхождении к своему
подопечному Прахов-Липкин не обмолвился ни словом. Дело развернул в
плоскость ненадлежащего воспитания и общественного упущения, неумолимо
ведших к трагедии. Впрочем, в те времена и такая малость казалась
фрондерством отчаянным.
В роман(ищ)е же звенели нотки не то что бы в оправдание Псова, но в
обвинение всех-остальных-прочих двуногих: мораль лицемерна и все
вообще-то не без греха. Маньяка осудить нетрудно - себя посложнее.
Ну что за пошлость! Стыдно.
В издательстве, между тем, сочли название "Болеро" излишне эзотеричным,
и дали ему другое (на праховский вкус - нелепое) - "Красное на
красном". Но и с таким он не имел ни малейшего в прессе, ни возгласа,
ни всхлипа, и продаж никаких. Сперва Виталия Абрамовича это смутило.
Ему-то сперва казалось - ах! А вот не ах.
Пытался разобраться: отчего у других и сюжет пожиже, и язык поплоще - а
успех, обсуждение, премии. В языке своем Прахов-Липкин не сомневался,
ему и сам Резник завидовал - так образно, но и точно на процессе дело
подаст, что и впрямь - ах! Сюжет же и вовсе из жизни, такой захочет -
никакой Акунин не придумает. Непонятно.
То, что затянуто (по мнению редактора), так ведь и сокращено вполовину.
И стал бы редактор (себе, что ли, во вред и убыток) плохое публиковать?
Не очень понятно.
Постепенно, впрочем, становилось понятнее и понятнее, и пришли,
наконец, как бы прозрение и стыд: типа - по праву незамечен, нечего
такое и замечать... Так говорилось себе самому в минуты творческого
самобичевания.
Но в глубине-то все равно таилось: ах, вот ведь - не заметили, не
отметили, не наградили!..
2.
Теперь, когда мы бегло познакомились с профессиональной и творческой
жизнью Виталия Абрамовича Липкина-Прахова, но покуда почти ничего не
знаем о его просто-жизни, самое время сказать о том, что он делает в
метро. Почему не сидит за рабочим столом, не обдумывает очередное
произведение?
А истерика. Банальная истерика.
Хотя странно на первый взгляд говорить об истерике у человека на
седьмом десятке, бывшего адвоката, умудренного, повидавшего, пожившего.
Тем не менее, это так.
Что-то перещелкнуло в голове Виталия Абрамовича минувшей ночью.
Очевидно, организм отметил галочкой приближение срока - через две
недели ему исполнится шестьдесят три. Это число казалось Прахову
фатальным - за ним только старость, глухая, недостойная старость. К
тому же слишком серьезно бывший адвокат отнесся к своей новой ипостаси
писателя, а любая серьезность мстит. Но за что, за что? Трудно сказать,
но мстит больно, мучительно.
В два часа ночи проснулся и как ни вертелся, уснуть не сумел до самого
утра. Пил воду на кухне, чуть было не закурил (бросил лет пятнадцать
назад, а тут - едва сдержался), пялился в окно на темно-серое ночное
небо. Вел диалоги с редактором, с критиками, с писателями, с
читателями, наконец. Нет, надо ехать, надо разобраться, нужно им всем
сказать! Да что сказать-то, Виталька? А хуй его знает, но надо, надо!
Ах, жизнь ни к черту, ни к черту!
Впрочем, к рассвету взял себя в руки и ровно в семь принялся за
гимнастику. Сначала для глаз - вращал яблоками туда-сюда, закатывал,
скашивал вбок-вверх-вниз, по диагонали. Почистил зубы, умылся, выпил
утренние таблетки (сосудистые), заварил свежего чаю, сделал легкую
зарядку (уже для тела) под легкую же музыку - руками-ногами помахал, ну
и что-то там для брюшного пресса, да и гантельки необременительные. Лег
на пол, задрал ноги - для сосудов опять же. Затем сел в полулотос - это
он и сам не знает толком, зачем, но верит: небесполезно для кровотока.
Все как обычно, как заведено уже два с лишним десятка лет назад - войти
в дневной ритм.
Казалось бы, отвлекся уже от ночного кошмара, можно приниматься за
дело, но нет. Виталий Абрамович слишком хорошо знал, что если он не
сделает сегодня каких-то решительных шагов, если не выиграет или не
проиграет, если не добьется определенности, то кошмар вернется,
бессонница измучит до полусмерти, а то и до без "полу". Разумеется, он
понимал, что никакой определенности не добьется, что определенность не
приходит немецким поездом по расписанию, но хоть видимость, хоть
иллюзия. Надежда.
Пока же наш герой стоит на перроне и всматривается в черный зев
тоннеля, закончим, наконец, его творческий портрет.
Испытав неудачу с роман(ищем)ом Прахов решил попытать счастья в малой
прозе - благо тем и сюжетов за долгую жизнедеятельность набралось, что
успевай записывать. Возможно, рассуждал он, в жанре рассказа (именно
рассказа, от глагола "сказывать") все встанет на свои места: знай
излагай сюжет, а выводы читатель сделает сам. И никакой, упаси бог,
философии, никаких выводов! Работать нужно по-чеховски - осенило. И еще
осенило: не следует брать сюжеты впрямую из практики, какими бы острыми
и сенсационными они ни казались. Не получается, не получается - в
том-то все и дело: лично и остро пережитое отчего-то отказывается лечь
на бумагу и стать пережитым вторично, ускользает, сползает в
морализаторство, в ходульность размышлений и оценок, и в
итоге - разваливается. Слишком много правды.
Заделавшись писателем, адвокат Липкин-Прахов, как мы уже упомянули,
вышел на пенсию, чем, кстати, немало удивил своих коллег-адвокатов.
Шестьдесят!? Да это ж самый расцвет для стряпчего, самый что ни на есть
цимес: опыт, репутация, связи! С судьями-прокурорами на "ты", в
сомнительных делах не замешан, олигархам не "подмахивал", взяток не
давал... Чудак-человек!
Резник звонил: "Не дури, Виталиссимус, приходи-ка лучше ко мне. Ты же
адвокат от бога! Зачем тебе это, зачем? Самые верные дела тебе оставлю.
Обещаю!"
На что Липкин-Прахов отвечал твердо: "Нет, дорогой, не хочу, устал.
Книжку хочу дописать. Не волнуйся, не мемуары, никого сдавать не
собираюсь, роман пишу..." "Ну-ну, Достоевский..."
Засел на даче, писал быстро: то, что до пенсии крапал почти семь лет и
едва перевалил за середину, завершил в какие-то полгода. Дописал. Навел
справки, посоветовали одно издательство, которое специализируется на
криминальных историях. Редактор Андрей Захарович Захаркин - бойкий
мущинка - читал долго, за это время можно было еще хоть полромана
настрочить. Прахов мялся-маялся, затем набрался неофитской храбрости,
позвонил. Редактор весело заявил, что "опус уж шибко длинен и зело
раздумчив, покуда до середины доберешься - истоки запамятуешь". Но, в
общем, отозвался благожелательно, с прочтением обещал ускориться.
Наконец позвонил сам, извинился - сказал, что "восхищен премного: чтобы
в такие лета да таков почин - это да-с!" Так и сказал - "это да-с!"
"...Но и сократить потребно. Сократить - это от слова "Сократ", то
есть, мудро, ха-ха! но и нещадно-с! Вдвое против прежнего, как не
больше! Измышления а ля моралите, игалите и фратарните уконтрапупить,
не трактат излагаем, криминальную историю. Нынешний читатель пухлых
волумов не жалует - все наспех, все наспех, фастбук, фастбук-с".
С кровью рвал Виталий Абрамович страницу за страницей и дорвал-таки до
заповеданного объема. Издали. Быстро и скверно. На обложке - оперный
злодей, душащий дамочку в красном плаще. Какое уж тут просвещение,
какое выправление нравов! Разослали томы по магазинам и забыли. Ни тебе
интервью с новым Достоевским в программе "Время", ни встреч с
восхищенными читателями в залах цэдээловых. Ни хрена.
Куда там! Вон Акунин новую книгу написал, это да-с! А там и Пелевин на
подходе! Прочел Прахов того, другого, третьего, пятого - ужаснулся:
язык казенный, фабулы надуманные, анекдотичные... Не проза - скверный
анекдот. Друзьям-знакомым декларировал пылко: "Сейчас видать - инженеры
писали! Не человеческих душ инженеры, а простые советские. Которые от
Никитинских сопливых шлягеров, да от мастеров маргаритовых кипяточком
ссут! Ни глубины, ни стиля! И это продается! О темпора, о морес!"
Понял: литературное ремесло ничем не лучше поганого адвокатства - та же
совесть купи-продай.
Виталий Абрамович, справедливости ради отметим, был начисто лишен
непотребства зависти, он действительно недоумевал. Не понимал. Он
вообще, как мы знаем уже, до пенсии читал одну классику. Да ведь и
классика не с небес свалилась.
3.
Прахов достает из рюкзака пластиковую дьютифришную бутылочку виски -
дочь привезла в подарок из-за границ - оглядывается, отхлебывает
украдкой. И тут же корит себя за слабость: тоже мне алкаш, еще и
двенадцати не пробило - а ты... тьфу.
Полдень, народу на перроне немного, хотя обычно на Тушинской
многолюдно. Виталий Абрамович (тут мы обратимся уже к сугубо личной
жизни писателя) приехал в Москву на автобусе из Петрово-Дальнего.
Уже девять лет, как он вдовец, у него трое детей - два сына и дочь,
взрослые. Внук - бутуз Никита у старшего сына Кирилла. Другие детки с
деторождением не торопятся, карьеры обустраивают.
Внука Прахов не любит. Он долго над этим фактом размышлял и пришел к
выводу, что первое впечатление всегда неисправимо - слишком румяным
здоровячком предстал пред очи деда новорожденный Никита, этаким
масластым ангелочком будто с барочного полотнища. Никите уже два с
половиной, а деду чудится в нем нечто слишком человеческое.
Не сказать, что за время своей адвокатской карьеры Прахов-Липкин только
и делал, что зарабатывал деньги, нет. В отличие от своих знаменитых
нынче коллег, миллионов он не собрал, виллы на Рублевке не построил,
однако ж, и нищим не был. Гонорары брал щадящие, а иной раз и вовсе не
брал из сострадания, но и все равно: детей обеспечил квартирами, а
дочке перед уходом на пенсию подарил машину. Себе же оставил лишь дачку
под Калугой, приют уединенный, куда наезжает чаще всего весной или
поздней осенью - тишина там в те поры царит необыкновенная.
Обитает бывший столичный житель - вы не поверите! - в убогой пятиэтажке
неподалеку от ворот знаменитого правительственного пансионата, того
самого, где, по слухам, Ельцин с Гайдаром готовили государственный
переворот.
Пятиэтажка построена была специально для обслуги чинов на отдыхе, а
пансионат раскинулся на просторах нижнего течения Истры - до впадения
ее в Москву-реку. Поселился в его предместьях Виталий Абрамович не сам
по себе, а у женщины, которая некогда работала в кущах кастеляншей.
Звать ее Тамара Игоревна и моложе она своего сожителя (термин сугубо
юридический) на целых двадцать два года. Занимает она двухкомнатную
квартирку на первом этаже.
Прежде в той же квартирке проживали еще: ее муж - художник-мозаист
Филипп, пьяница горчайший, и дочь их Полина.
Познакомились они так. Виталий Абрамович ехал воскресным майским
деньком из Уборов. Это его заветное местечко в Подмосковье, любит он
там гулять по поймовым лугам, на которых сохранились еще фрагменты
усадебного парка - полузаросшие пруды. Над ними стройная церковь
красного кирпича, та самая, что снял Михалков в своем безумном
"Цирюльнике" в сцене про кулачный бой.
Любит Виталий Абрамович там не только бродить по просторам, но и
искупаться в жаркий денек в Москве-реке - на берег машине не проехать,
а потому малолюдно.
Прахов возвращался из Уборов ранним вечером. Славная пора:
только-только зацвела сирень, засвистали соловьи. Адвокат нарвал охапку
белой сирени на старом кладбище - дочери. Вот проехал мост через Истру,
не торопится, солнышко сзади, с запада, на дорогу ложится ласково.
По обочине шагает женщина с сумкой, ведром и лопатой. Прахову ее жалко:
тяжко селянке. Тормозит, ждет, пока та поравняется, и в окно:
- Садитесь, подвезу.
Она и села.
Обыденно села, будто не сомневалась, что он остановится. Прахов косится
на пассажирку: русая коса вкруг головы, глаза за очками усталые. А
ничего, симпатичная, - думает.
Она ему:
- Спасибо вам большое. Да мне и недалеко, я не затрудню, я в
Петрове-Дальнем живу, рядышком.
- У вас такой вид, будто целый день в поле пахали... - в шутку говорит
Виталий Абрамович.
А она:
- Ну, да, я картошку сажала.
Оказалось, что на неприглядной этой пустоши слева от дороги есть у нее
мизерный надел и на нем она огородничает. - А как иначе? Как жить? -
говорит. - Особенно зимой. А тут помощь: как-никак - пять мешков, а то
и все восемь, если жук цветы не пожрет.
Так и живут. Дочь учится, почти взрослая, денег много на нее уходит,
так что - помощь, помощь.
Довез, помог вещи донести, а она и приглашает: заходите, чаем угощу. С
повидлом. Из своих яблочек. Вон, видите, две яблоньки под окном? Тоже
помощницы. В том году такой урожай был - ветки ломились! А под другим
окном, где спальня, у меня цветы. Скоро пойдут на все лады цвести -
красота!
Зашел.
Тамара Игоревна Прахову глянулась-пришлась: тихая, близорукая,
трогательная, сердце праховское защемило. Влюбился.
Как раз, когда пили чай с сухарями да с повидлом на кухоньке, вошел
мужичок лохматый, с клочной бороденкой, по-домашнему - в трусах, в
майке на бретельках несвежей. Глазки заплывшие, красные. Виталий
Абрамович напрягся.
Сперва утешился тем, что, верно, брат - иначе стала бы она незнакомого
мужчину в дом на чай-повидло зазывать. Оказалось - не брат. Муж. Хотя и
бывший. Развелись три года назад, но живут вместе, куда деться?
Оказалось, художник, да редкий - по мозаике. Прежде оформлял фасады да
фойе официальные, денег получал много и жить бы им сыто да ладно, но
ведь вчистую пропивал гонорары.
Мыкалась Тамара Игоревна с мужем-пьяницей, считала простыни-наволочки в
правительственных палатах, денег едва на прокорм хватало, а на дочь уже
и не очень.
Подала на развод, развелись, только мало что изменилось, художник жил
здесь же, пил так же, ел то же, что прежде - брал из холодильника все,
что попадалось под руку - не помирать же, в самом деле, с голода. Не
гнушался и воровством - крал деньги у бывшей жены, чутье у него было на
схроны ее и заначки. Приходилось деньги на работе держать - в казенном
белье. Он же, получив очередной гонорар, грозил вернуть "все до
копейки" и не возвращал ничего.
Покупал, правду сказать, еще, будучи в супружестве иной раз
какой-нибудь дорогой, но равно и бессмысленный подарок - к примеру,
соболью шубку - да только где в Петрове-Дальнем в соболях
щеголять? На работе, до которой пять минут пешим ходом? Товарки, да,
обзавидуются - но и вся выгода. В ресторан одна не пойдешь, да и не на
что, а театров тут отродясь не бывало, театры в Москве. Туда в вонючем
автобусе битый час трястись, да на метро еще столько же до театров, и
обратно потом, да в ночь, да в холод, да в темень и в грязь. Театры,
ха!
Шубка впрочем, дня через три исчезла бесследно, обмененная дарителем
где-то втридешева. Лишь однажды упредила Тамара Игоревна тороватого
пропойцу - продала на работе каракулевую шапку. Он хватился - да
поздно. Хоть что-то.
Бывший занимал маленькую комнату, Тамара Игоревна с дочерью - большую.
Так и жили.
- Он, слава богу, не буйный, нет. Выпьет и до постели бы добраться. А
утром похмелится - и по новой. На неделю, а то на две. Из запоя выйдет,
дней десять поработает, и опять в запой. Циклы у него... - без тени
смущения поведала Тамара Игоревна гостю, когда бывший, нахлебавшись
воды из-под крана, ушел восвояси.
Как раз в первый день знакомства узнал Прахов, что мозаист на днях
получил заказ, которым гордится без меры, так, что обещал "избавить
всех от своего присутствия, комнату купить в самой Москве". Поручено
ему было исполнить мозаику в восстановленном храме на Волоколамском
шоссе. Забегая вперед, скажем: исполнил, и, по слухам, исполнил
отменно. Два месяца геройства: что называется, в рот не брал. Дело-то
богоугодное - Святую Троицу сложить над вратами. Помимо денег получил
благословение от отца-настоятеля и епитимью заодно: грех винопития
постом и молитвой изжить. Постом и молитвой.
Да только прахом пошла епитимья: ощутив в кармане изрядную сумму,
Филипп как бы невзначай... Впрочем, что тут описывать всем знакомый до
мельчайших шестеренок механизм: пропито было все вчистую.
Возвращался в Москву Виталий Абрамович в лирической задумчивости.
Притормозил в Ильинском у почты, где, знал уже, с недавнего времени
работала Тамара Игоревна.
Влюбился, Виталька, влюбился! В пятьдесят восемь лет втюрился, как в
двадцать! В ребро бес, в самое ребро!
В туннеле показались огни - поезд. Да что так мало народу? -
недоумевает Виталий Абрамович, - здесь же всегда толпы с электрички!
И вспоминает, в тот самый момент вспоминает, когда услужливо
раздвигаются перед ним двери. Краем глаза, уже входя в вагон, замечает
сзади на платформе молоденьких милиционеров с собаками, на поясе
противогазные сумки. Вот оно что - теракт!
Ну да, неделю назад взорвали на Лубянке и на Парке Культуры два вагона
- три с лишним десятка мертвых. Это он слышал: Тамара Игоревна даже
телевизор включила специально. Обычно не включает, не любительница, все
больше по хозяйству хлопочет, не нахлопоталась знать, не до того было -
с мужем-пьянью двадцать лет жить-вздыхать. Теперь же расцвела,
похорошела. Прахов тут же забыл про теракт, мыслями угодливо
возвратившись в Петрово-Дальнее.
Почти ведь красавица, если б очки дурные не надевала. Виталий
Абрамович, правда, про очки реплик критических не отпускает - зачем? А
и хорошо, что портят - авось чужой глаз скользнет, да не ляжет. Тамара
Игоревна на своем клочке под окнами за цветочками ходит - холит-рыхлит.
Да на дальней делянке картошку-морковку обхаживает. Умается, дома сядет
в кресло тихая-тихая, очки наденет, и ну читать - Донцову, Дашкову, и
еще Устинову что ли какую-то... Красавица моя, петровоблизкая! Мечтает
"на землю уехать", так говорит. Мать у нее под Шаховской в деревне
живет, туда Тамара Игоревна собирается, "как дочь на ноги поставит", а
сама на пенсию выйдет. Она и внешности самой крестьянской - руки
большие, ноги крепкие, кровь с молоком. Дочь Полина уже в Москве, уже
работает-учится, с подругой квартирку снимают.
А Филипп, что ж - помер. Церковный заказ исполнил, месяц пил, до чертей
зеленых. Всех вроде в форточку ремнем повыгнал, а вот один, пренаглый -
шустро этак за шкаф и шмыг. Художник его и веником, и тапками, а тот на
свет Божий не торопится - не хера ему там делать - ухмылки из пыли
строит, пальчиком скрюченным грозит. Филипп поднатужился шкаф
отодвинуть - кровь горлом и хлынь. Скорая, носилки, цирроз в крайней
стадии, через сутки душу окончательно Создателю вручил.
Как раз накануне счастья-несчастья Виталий Абрамович с Тамарой
Игоревной объяснились на берегу Москвы-реки, прямо за домом, под ивами
плакучими. Теплый был вечерок, июльский, комары, правда, досаждали, но
не слишком. Положил он руку на ее плечо, а она и прильни. И вот.
На другой день он звонит, а она: Филипп умер. Стало быть, первым их
совместным актом стали похороны, поскольку хоронить его больше некому.
Прахов помог, агента возил, расходы взял. В Ильинском же и зарыли, на
погосте у новой церкви.
Не мог не заметить Прахов, как после отпевания подошла Тамара Игоревна
прощаться к бывшему, нагнулась, рукой пригладила мертвые волосы, в лоб
поцеловала. То ли простила, - подумал Прахов, - то ли не отлюбила.
Вздохнул, и на тебе, тьфу, ты черт! - перекрестился. Неожиданно для
самого себя.
Полина тогда перешла в последний класс, мать отдала ей большую комнату,
поскольку в той, где отец гонял видения, девушка жить наотрез -
впечатлительная. Зато и сошлись в этой комнатке, уже через две недели
после похорон - ну чтобы не слишком Бога гневить - Тамара Игоревна и
Виталий Абрамович.
Любовницей она оказалась робкой, нежной, предупредительной.
4.
Ну да, теракт.
Прахов садится на свободное сиденье в середине вагона, достает книгу -
Бунин, надевает очки. Зрение у него еще вполне, читать может и без
очков, если освещение хорошее, но в этом вагоне тускловато - и
приходится. Посмотрим, что Бунин?
Отчего - Бунина? Да просто: издатель его первого, и, скорее всего,
последнего романа, сказал по телефону так: рассказы-то я посмотрю,
конечно, коли прислали, спасибо... но вообще-то мы рассказы
не очень печатаем, они "у читателя не идут".
Как не идут? - у Чехова шли, у Бунина... Не понимаю.
Ну, скажем так: вы покуда не Бунин, и тем паче - не Чехов, - хмыкнул
редактор. В толстые журналы посылайте, ради бога, добавил, как бы в
компенсацию за хамство.
Так ведь послал уже - и там молчок.
Ну, это не ко мне. Вообще же скажу, что и там нужны знакомства -
самотек они не читают, ленивы, ха! нелюбопытны. А что до рассказов, не
обижайтесь: в этой Америке хваленой их тоже, сообщу вам, не издают -
спроса нет. Но прочту, прочту всенепременно и резолюцию наложу
своевременно!
Этот факт Виталия Абрамовича озадачил: казалось бы - что как не рассказ
предназначено именно для читателя, когда коротко и емко, компактно? Ан,
нет. Вот и в самой Америке не печатают. Но ведь пишутся же рассказы. И
публикуются. Петрушевская вообще ничего кроме них не пишет!
Так то Петрушевская, она хоть пустые страницы в издательство сдаст, а
все равно публикуют! Имя! А у вас... - редактор помялся. - У вас,
простите, - один псевдоним в наличии.
Циник он, Андрей Захарович. Так до сих пор и не прочитал, не наложил,
не позвонил.
И что Бунин? А Бунин как Бунин - описания хороши, хороши, но разве кто
теперь станет читать описания? А еще что? Вот психолог Выготский
полагал (Прахов читывал его в молодые годы), что, дескать, умеет этот
писатель пресуществлять прозаическую воду в изысканное вино. Дескать,
композицию в "Легком (кажется) дыхании" так закрутил, что из банального
сюжета и вылупись шедевр.
И что? Прахов на голубом глазу решил, что и он делает ровно то же самое
и безо всяких выготских рецептов, так сказать по наитию. Сюжет
переворачивает вверх тормашками: где с середины начнет, где вовсе с
финала, события перетасует, как колоду, и... Где оно, пресуществление?
Нет его - никто не заметил, ни один не восхитился.
Вот, к примеру, Сенчин - немудреный, подробный. И слава ему, и премии,
и тиражи! А Гришковец? Обывательский треп у подъезда. И без малейшего
ведь пресуществления!
Можно, конечно, как Сорокин, фекалий с матерком подпустить в
повествование, содомии какой-нибудь отчаянной... Прахов взял да и
подпустил кое-где - и... опять мимо. Все мимо, все мимо!
Виталий Абрамович вертит в руках очки, задумавшись о превратностях
писательской судьбы, и перед тем, как вновь надеть их, смотрит на
противоположный ряд сидений. Люди: кто в газету, кто в музыку, кто в
дрему. Все как всегда.
Прямо же перед ним - женщина молодая в белом платке: крупные черты
лица, по отдельности вроде бы и правильные - зеленые глаза, носик
прямой, лоб чистый, волос, правда, из-под платка не видно, губы тонкие,
глаза, да зеленые, я это уже отметил - зе-ле-ные. А вместе - некрасиво
и неприятно. Прахов уже отвлекся от размышлений о тяжкой судьбе
графомана, он изучает попутчицу и силится понять две вещи. Первая: что
такое есть в женском лице, что отличает его от мужского? Эта проблема
мучит его давно, у кого ни спросит, даже у знакомых художников - никто
толком ответа не дает. А ведь такой, казалось бы, элементарный вопрос!
Эх, а еще Писатель! Адвокат! Следователь!
Вторая же непонятка: что делает лицо с чертами правильными -
некрасивым, даже уродливым? Но тут он соображает быстро: какая-то,
очевидно, несоразмерность: нос чуть крупнее, лоб ниже, глаза пожиже - и
пошло, поползло, поехало... Съехало в безобразие.
Но глаза... Глаза у женщины, что напротив, какие-то... стеклянные, что
ли. Как у куклы - пуговки бессмысленные. Да и лицо как бы кукольное,
вроде и обычное, но какое-то и необычное. Как-то все его черты что-то
слишком определенные, нет в них славянской невнятности. Не славянка,
определенно не славянка, скорее с востока... Точно. Отчего-то именно
восточные женщины очень кукольны, как-то слишком черты у них
определены, Прахов это давно отметил.
Не читает она ничего, и не слушает, просто сидит, взглядом стеклянным в
никуда повернутым. Кажется, и на тебя смотрит, а и мимо, мимо.
Белый шелковый платок повязан по-мусульмански: так что ни волосинки не
лезет из-под ровной каймы на лбу. Кожа слишком белая, как бы мертвая.
Юбка длинная, аллахуугодная. А ножки-то под ней небось - кривые да
толстые. Да и волосатые по-козьи. Горные. И руки волосатые. Была у
Прахова в студенчестве любовница Алина. Аварка. Родилась в Москве,
росла, московскими вольностями запитанная. Руки вот тоже были
белые-белые, а волоски на них - черные-черные, вполне себе
отвратительно. То же и с ногами, да и на животе, выше даже лобка -
"раскинулось море широко!" Кабы не страстность ее первобытная в
постели... А так тянулась их связь долго, покуда Алина не вышла замуж.
И что бы вы подумали? - за аварца же.
Но глаза - странные глаза.
Прахов поглядывает на женщину, очки же машинально теребит, так и не
надев.
И вдруг его пробивает: террористка!
Он вспоминает вчерашний, пасхальный, вечер, когда ехал с Тушинской в
свое Петрово-Дальнее в позднем, почти пустом, автобусе. В Спасе вошла
женская компания пьяная: ор да хохот - разговелись. Прахов сидел сзади.
И вдруг - скандал. Какой-то кавказский по всему, немолодой уже мужчина
выскочил на середину салона и что-то (в лязге автобусном не разобрать),
отчаянно жестикулируя, принялся доказывать самой пьяной - кургузой
крашеной брюнетке - орала громче всех. Горец каркал-взывал, тряс перед
носом бабы паспортом.
Та ж визжала в ответ, а что - не понять.
Этот дикий диалог дошел уже до крайней точки накала, как встрепенулись
ее товарки, вскочили разом, принялись увещевать-усаживать: Надь, да
брось ты! Не связывайся ты с ним, не надо, Надь!
- А мне похуй! - та.
Автобус тоже взвизгнул тормозами, из кабины вышел усатый водитель:
- Успокойтесь, а то дальше не поеду! Ты (кавказцу) ее не слушай, видишь
- пьяна. А ты (бабе) - отстань! Или будем стоять - понятно?!
Бабу кое-как усадили. Сел и горец.
Не успел автобус тронуться, как скандалистка вскочила и прямиком к
Прахову.
- Во блядь черножопая! - склонилась, разя водкой и мясом. - Ни хуя не
боится! Мы же их, чуреков блядских пригрели, а они - ни хуя не боятся!
Прахов молчал, та распалялась:
- Паспорт мне тычет, нет, ты видал!? Чурек нерусский! А то я не знаю,
как у нас паспорта продают-покупают! У меня брат Леха в милиции, в
Петрове-Дальнем! Нет, ты понял?!
Прахов отвернулся в окно.
- Не любят они нас, не любят, нах! Вот что! - последним аргументом.
Достала телефон:
- Леш? Лешенька? Ты не дежуришь? Нет? Все равно вот что тебе скажу:
гони к 549-му! Тут, нах, сидит один, черножопый, блядь! А я, вот чего:
я, Лешенька, боюсь! Он же взорвет нас, взорвет, нах! Он нас всех сейчас
на хуй взорвет! Давай, Лешенька, гони, гони! Мы еще Павшина не
проехали, успеешь!
Постулат "они нас не любят" Прахову понравился. Он едва удержался,
чтобы не крикнуть:
- Да за что ж тебя любить?!
Но не крикнул. Тоже достал телефон, прикинулся говорящим, лишь бы
отстала.
Баба же с мстительным удовольствием выдохнула:
- Сейчас Леха, братан мой, встретит! Встретит черножопого! Допрыгался,
козел!
И победительно вихляя гузном, вернулась к подругам.
Виталий Абрамович представил себе таковую картинку: из автобуса выходит
усатый кавказец - грузин, армянин, осетин, чеченец, неважно - его
встречают подвыпившие (Пасха) менты, заламывают руки, везут в
обезьянник, бьют, грабят, снова бьют... Не любят они нас.
К Тамаре Игоревне вернулся мрачнее тучи. Она же встревожена, она всегда
расстраивается, видя его таким, но и всегда молчит. Она на стол
собирает пасхальный ужин: кулич, яйца, отбивную с картошкой, бутылку
водки. Прахов машет рукой - не хочу, ничего не хочу. Закуривает на
кухне, открывает окно, смотрит на забор перед домом.
Не любят.
Стало быть, террористка. Руки на животе, а под кофтой, небось,
взрыватель. Взрывать сейчас не станет - народу маловато. Подождет до
Баррикадной или до Пушкинской, где толпы нелюбимых роятся,
входят-выходят - взрывай не хочу.
Выйти? Но если все так, то ведь и сроки сходятся, Прахов, чтобы тебе не
жить! Так что оставайся. Ха. А все ж таки страшно. Не то слово -
ужас! Виталий Абрамович действительно ощущает ужас, так что
едва сдерживает мочеиспускательный позыв. Он встает, деревянно шаркает
в конец вагона: там еще можно сесть-уберечься. Поезд только что миновал
Щукинскую, на Октябрьском поле свободных мест уже не будет.
Страх исчезает также внезапно, как и возник, даже смешно. Прахов
садится в самом углу, но так, чтобы видеть женщину. Достает телефон,
открывает записную книжку. А ведь что ни говори, удача, удача. Если
чутье не подвело, и она действительно намеревается взорвать вагон, то
здесь до него и сейчас вряд ли достанет, а в толпе и подавно. Но нужно
быть начеку, чтобы не задело случайно болтом ли, гвоздем, или чем они
начиняют пояса свои шахидские.
И вот еще что - рот держать открытым, открытым, а уши - напротив того -
закрыть, чтоб ударной волной не снесло барабанные перепонки.
И писать, писать, фиксировать. Теракт онлайн! Удача, удача.
Если же она не террористка, что, скорее всего - на девяносто девять и
девяносто девять сотых - и окажется, то все равно - писать,
регистрировать, воображать. И уж это будет рассказище!
Для начала вот что: почему она здесь? Не зачем, а почему? Думай, думай.
Воображай, писатель! Легенда, скажем, такая: в дагестанском ауле
учительствовала, тайком вышла замуж за знаменитого ваххабита Саида
(Талгата, Магомета)... так, так...
А он ей утром как-нибудь, прокравшись, скажем, накануне, как тать в
нощи (ищут же его, рыщут!) и говорит: вот что, Шахри (Зухра, Фатима),
поедешь в Москву, взорвешь метро с гяурами. Отомстишь за Ваху (Аслана,
Шамиля), за моего старшего брата, да пребудет с ним Аллах! Ваха (Аслан,
Шамиль) в перестрелке погиб в Каспийске, так, так... Шахри (Зухра,
Фатима) спокойна, виду не показывает, что испугалась, коли муж сказал -
так тому и быть. Единственная вещь, которая ее немного (или много? -
неважно) беспокоит - дети.
Она рассуждает примерно так: если русским нужно мстить (а мстить
нужно), если жизнь нужно положить на то, чтобы избавиться от
их ига ("ох, не любят они нас, не любят!"), то кто же будет жить в этом
счастливом будущем без русских? Она - молодая, красивая (страшна, как
смертный грех!), в самом соку женщина, - ей бы рожать да
рожать! Бойцов да невест, бойцов да невест. А муж рожать не велит,
велит умереть. И она спрашивает Саида (Талгата, Магомета):
- Да, любовь моя, мой повелитель, я поеду, я взорву. Только скажи мне,
любовь моя, мой повелитель: значит, я не рожу?
Виталий Абрамович набирает эти слова в записной книжке с помощью
программы Т9 - удобно, быстро. Он, разумеется, не все набирает, а
только главные слова, а потом...
Так, рот почему закрыл? Держи рот открытым, открытым, Виталька!..
...а потом восстановит по ним фразы и мысли. Только что он набрал это:
"Она: я не рожу?" И с изумлением видит на экране: "Она: я не умер?". Не
верит глазам, тычет в клавишу "выбор", и "я не умер" сменяется на "я не
рожу".
Набор букв выдает два варианта, в которых заключается вся жизнь без
остатка: рожу-умер! Это обстоятельство Прахов расценивает,
как знак судьбы. Он снова взглядывает на кукольный профиль женщины. Та
таращится в окно. О чем она думает, думает ли вообще? Разумеется, она
накачана наркотиками, и только того и ждет, как машинист объявит:
"Станция Пушкинская, переход на станции "Чеховская" и "Тверская"...
Программа у нее такая. А как услышит, посчитает про себя до двух - как
раз народ зароится в дверях - и р-р-раз! - нажмет взрыватель! В самую
гущу! Или что там она сделает? Соединит проводки, раздавит колбочку с
кислотой? С щелочью? В общем, взорвет.
Взорвет она, так и не родившая.
Она спрашивает Саида (Талгата, Магомета): скажи, любовь моя, мой
повелитель - кто же будет жить в этой счастливой, в любезной Аллаху,
стране, если я не рожу, Зухра не родит, Фатима не родит?! Он отвечает с
улыбкой (женщины - существа неразумные, вечно им все нужно
растолковывать!): другие родят, не беспокойся, рожать будут без
продыху, как автомат калашникова, ха-ха! и бойцов, и невест. Нам бы
только неверных, грязных русских извести, наконец!
Нелюбимых.
Станция Полежаевская. Недолго и осталось, три остановки, народу в
вагоне прибавляется, уже кто-то встал перед женщиной, заслонил Виталию
Абрамовичу ее лицо, видны только плечо да рука, да краешек шахидской
юбки. Если вздумает взрывать - он в безопасности.
Но рот! - рта не закрывать! - кто знает, какой мощи будет волна? Никто.
Не любят. Это он хорошо знает, хотя среди его клиентов никого с Кавказа
не было. Нет, был один армянин, Армен Казарян, педофил. А так в
основном русские, литовец один, один бурят... ну и хохлы... эти не в
счет.
Когда на другой день после теракта пошел вопеж, что "пострадали
невинные люди" - Прахову было смешно. Ей богу.
То есть, когда война и гибнут солдаты - они не невинные? Типа присягу
принесли: насмерть стоять за родину! Стало быть, присяга, вроде бы и
снимая вину с человеков, таки делает человеков виновными. А не
присягнул - и нет вины. Вполне себе аристотелева логика.
Невинные жертвы? Сытая чванная Москва в истерике - уж больно не хочется
ей потрясений. Это на Кавказе смерть обыденна, как чаю попить, так то ж
- Кавказ. Скучно.
Главное ж - нас не трожь! А что в Африке ли, в Индии - сотнями,
тысячами каждый божий типа день - не беда: они там, мы - здесь.
Невиноватые мы.
Виталий Абрамович обводит взглядом пассажиров. Этот бритый в наушниках
- невинен? Как младенец? Да ладно! Небось, за власть всласть голосует,
всласть. И "черножопых", небось, чморит почем зря - ебать Кавказ! А
девка в розовой куртке? Сама невинность? А этот, а тот, а
эта? Невинные, как же!
Нет, все же невинны, так же невинны, как и сама женщина эта в белом
платке. Он нагибается, чтобы взглянуть на ее лицо - оно бесстрастно,
так ему кажется. Сидит, вперилась зелеными стеклами глаз в чьи-то
ягодицы прямо перед собой. Руки, так же как и два перегона назад, у
пояса, у пояса. Наизготовку.
А что - вполне уже и можно, народу много (рот не закрывай!),
клиент созрел, хе-хе.
Нет, нету ни невинных, ни виноватых - все виноваты, все невинны.
Невинны, когда спят, - innocent when you sleep, если по Вейтсу.
Разве ж для того они рождаются (в муках), чтобы сразу начать учет
прошлых обид и чужих вин? Отнюдь. Они рождаются, чтобы жить. Но как
только рождаются, все вокруг начинает происходить ровно таким образом,
чтобы уже и не жить. Начинаются: поиски пропитания, страдания, болезни,
холод, голод, власть, мрак, дрянь, ужас. Они-то, рождаясь (в муках, в
муках!) отнюдь ведь того не учитывали, наивные. Они становятся
виноватыми сразу. Как родятся - так и выжигается на их лбах клеймо
вины. А ведь просто хотели жить, коли уж родились (в муках, в муках).
На этих станциях он был - на Парке Культуры и Лубянке - после взрывов.
И как скоренько кровь-то отмыли-оттерли! Небось, всякий это про себя
продумал, кто приезжал из любопытства. Ну и чем отличаются эти мысли
от раскольниковских, когда тот на месте своего преступления
пытал рабочих: "А что кровь-то уже смыли?"
Всего-то двоих угрохал, а тут - каждый день сотни, тысячи!
Вот и валят "невинные" толпами поглазеть: а кровь-то уже смыли?
Были б невинными - не вышли бы и вовсе из дома, покуда эти не
договорятся промеж собой. Скажем, поедет, не побрезгует, президент к
ваххабиту в горную саклю. Выпьют они там чаю из ормудов (Прахову
отчего-то решилось, что чай непременно будет с овечьим салом) и
президента - ну тошнить! Но виду не подаст, только потом, типа по малой
нужде отойдет, а сам за саклей проблюется тайно-смущенно. И вот
порешат:
Ты больше, это, Саид, того... не надо... кончай ты с этим делом... ну,
и вообще... у тебя вон жена (или сколько там тебя жен?) красавица (а та
как раз - страшная, усатая, хе)... ей (им)... это...
рожать... чего уж ты ее в пояс-то... того... обряжаешь?..
Беговая. А хорошо бы, чтоб взорвала, в самом деле! Ехал же в одном из
тех вагонов какой-то малый (студент что ли, азиат
косоглазый), который разглядел в соседкиных глазах стекло
предсмертное, выскочил на станции и тем спасся. Так и я - разглядел, и
теперь, в самом деле, хочу, чтобы она свое исполнила, чтобы в ужасе
содержать сонмы существователей.
"А что кровь-то смыли?". Смоют, куда денутся?!
Рот разинь, рот! Рот держать раскрытым!
Виталий Абрамович тычет пальцами в клавиши.
Набирает "обладать" - а там "наказать".
Набирает "воля" - а там "боль".
Набирает "убить" - а там "такую".
Убить такую, ха!
А то еще: встать перед ней, прижаться плотно, заслонить (слоном, ха!) -
загородить "невинных", собой пожертвовать ради существования
существователей! Ради жизни на земле! Отныне и присно и вовеки веков.
Амен.
Убить такую!
5.
Виталий Абрамович отвлекается от антитеррористических мыслей и снова
принимается думать о своих рассказах.
За тридцать лет адвокатуры, да и просто жизни, сюжетов узналась масса,
успевай записывать. Была бы "воля" - будет и "боль". Отчего мои писания
так безнадежно печальны, так унылы? Отчего?
Он начинает припоминать сюжеты, один за другим, один за другим, все то,
что сложил в рассказы, пресуществил и отправил в начале года редактору
Андрею Захаровичу Захаркину - человечку гномообразному и оттого с
немалыми комплексами.
Скорее всего, голову Захаркина кладу на отсечение, - решает Виталий
Абрамович, - этот Захаркин (харк-харкин!) и сам не без литературных
амбиций, и такой же неудачник, что и я, вот и злобствует: рассказы-де
не продаются ни у нас-де, ни в Америке...
Отчего бы им не продаваться? Вот "Декамерон" (см. ниже -
прим. редактора)
- дикая, чисто русская история про липкого, грязного
онаниста-повара - котлеток его, слава богу, отведать не привелось!
Про пожар на серебряноборской даче, разумеется, мало кто тогда слышал:
времена были глухие, советские, такие инциденты не афишировались, про
них знали разве что родственники погибших да, разумеется, следаки из
милиции. Сам же он эту историю помнит, поскольку как раз в те годы
практиковал стажером после института в отделении милиции родного
района. Следователи были уверены - поджог, уж больно хорошо занялось,
даже и для такой суши, с трех сторон занялось, не иначе кто-то
постарался, чтобы уж наверняка спалить... Но улик не наскребли и дело
прикрыли.
И спустя столько-то лет на той же самой даче - уже и вовсе страшные
вещи случились: целую компанию местных бомжей пытали-убивали в подвале.
Лишь один спасся, да и тот помер в "скорой". Все московские газеты об
этом написали. Палачи-любители, разумеется, ударились в бега. А чуть
позже нашли в кустах и последний труп - бомжихи. Имени ее никто не
знал, участковый вспомнил только кличку - Чуня. Виду убиенная была
почти восточного, а кто и откуда - пойди разбери, мало ли в Москве
приблуды...
Виталий же Абрамович вспомнил "пожарный случай", вспомнил, что
единственной уцелевшей тогда счастливицей была некто Буратаева (он
профессионально помнил имена-фамилии-обстоятельства из криминальных
сводок), и вот - свел два сюжета в один, по-своему стройный. Да-с.
Палачами же оказались трое строителей из Астрахани, их вычислили
быстро, быстро же и нашли. Бригадир Степан Курилов - человек
больной на всю голову русской идеей, а на деле - простой садист.
Подельников набрал себе под стать. Строили они особняк на месте давно
сгоревшей дачи, да и между делом учредили в подвале пыточную. В Малюту
Скуратова игрались, ха! Сознались в пяти убийствах (это не считая
Андрюшки). Бомжам местным сулили выпивку, сажали в машину, везли в
подвал - и.
Подробности опустим. Кто жаждет подробностей - в газеты, там все
изложено с приличествующем делу сладострастием. Руки спиртом мыли -
целую канистру нашли в подвале. На следствие объяснили, что брезговали
"к вонючим касаться".
А этот Череп или Ряба - учился с Праховым в одном классе, липкий такой,
прыщавый, глаза холодные, бледно-голубые. Такой рано или поздно не мог
не убить, не мог.
Дальше "Богбандит" (см. ниже - прим.
редактора). Так, почти
шутка. Не из адвокатской практики, а услышал-увидел, как в переходе
метро старик отчитывает нищенку. Виртуозно отчитывает: стихи
декламирует, чуть не сонеты Шекспира - Прахов поэзию не слишком знал, и
когда рассказ писал, томов двадцать перерыл всяческой. Для
убедительности. Попутно открыл для себя Мандельштама, с тех пор с его
томиком редко расстается, наизусть выучил чуть не половину, сам
удивляется.
- А вот вы сами смогли бы попрошайничать? - вмешался тогда Виталий
Абрамович надзирающим нравы моралистом. - Вот так встать с протянутой
рукой и стоять? То-то. Отстань, дед, отстань, от девушки!
Отстал, ушел. Но, впечатленный стариком и стихами, Виталий Абрамович
(он тогда еще практиковал), вообразил, что в этих проповедях вся того
заключается пенсионерская жизнь. Что, не сумев сказать это
прежде, наверстывает старик упущенное. Очень хочется хоть
ненадолго, но богом побыть. Власти хочется. Пусть над убогими да
безответными.
Баритональная же тема возникла как бы по контрасту, мог таковой человек
и чистым искусством наслаждаться, мог, отчего не мочь.
Что до немца-меломана-алкоголика, то знавал Виталий Абрамович и немца,
и его дочь - знавал лично, бывал у них дома на Волхонке: все так, все
так, и смерть от чахотки - тоже. И судьба Василины (на самом деле,
звали ее Ангелиной) - та самая. Вышла замуж безответная, тихая девушка,
и уж муж над ней поизмывался. Она Праховской жене звонила, тихо
жаловалась. Потом пропала, пропала без вести, так что и розыск ничего
не дал. Жива ли, нет? Бомжует ли? Погибла? Рассеяна была до
невозможности, едва, казалось, помнила, как ее саму зовут. Вполне могла
пропасть, сгинуть. Где ты, Ангелина, создание ангельское с голубыми,
широкими, как блюдца глазами?
"Желтую тетрадь" (см. в следующем номере - прим. редактора)
Прахов списал
целиком из реальности: старуха-соседка покончила жизнь самоубийством.
Интеллигентная московская старуха, "Красной Москвой" душилась (где
брала такую древность?), в Большой театр хаживала - как-то раз
опаздывала, он ее подвозил.
С сыном родным, как тот женился, у нее не-задалось-разладилось, Прахов
знает, слышал не раз из квартиры крики скандала. Сын орал так: "Ты мне
всю жизнь погубила, всю жизнь! Свекровь - это самое страшное существо в
мире!"
Старухиного голоса Прахов не слышал, и это его настораживало: в себе
держит, в себе, плохо, плохо...
После скандала соседка обычно из дома носа не казывала, стеснялась. И
внуков ее он ни разу не видел, не привозили, стало быть. Жизнь старухи
Прахов изучил, ему казалось, по таким вот отдельным приметам -
скандалам, неплачу, невнукам. Жаль ему было ее, одинокую, иной раз
звонил, спрашивал: не нужно ли что в магазине, а может - отвезти куда?
Но та была и горда сверх меры, и всякий раз отвечала: у меня все есть,
дом - полная чаша. Один раз только и села к нему в машину, да и то
оттого, что ливень был страшенный, а она на балет опаздывала.
Гордость - штука посильнее всех фаустов в мире. Это он понял, когда
вызывал милицию, учуяв запах газа. Сразу догадался, в чем дело. Сын
приехал бледный, губы трясутся. Дверь уж вышиблена, газ рассеялся, мать
на кухне мертва.
Вышел, показалось, с улыбкой облегчения: отмучился, стало быть. И она
отмучилась. Оба отмучились. Очередная драма ушла дать место другим.
В рассказе, впрочем, Прахов не стал убивать старуху, она выжила, сын ее
спас. Затем только, чтобы все началось сызнова. Вечный хоровод ужаса.
Вот оно - настоящее болеро. Без моралей и философий.
Прахов, вспоминая эту историю, тут же решил попутно (и возвышенно!),
что это и есть самая гениальная музыка на свете. Все прочие - вечно
тщатся-тужатся что-то развить, усложнить, тогда как Равель честен -
жизнь по кругу. Впрочем, Прахов сразу вспомнил к месту и бахову
"Пассакалию", а следом логично - "Юношу и Смерть" с Барышниковым...
Нет, пожалуй, эта еще гениальнее. Эта - просто эталон.
Что следом? "Единицы счастья" (см. в следующем номере - прим. редактора)
Документально зафиксированная быль. Дружок его школьный (фамилию
называть не станем) как-то прочел ему свои записи в подпитии. Вел,
оказывается, дневник побед, тщеславный.
Сидели они тогда и вечер, и ночь - встретились два одноклассника
случайно, внезапно и сошлись. Водки взяли, закусок, поехали к тому,
пили, пили, вспоминали. Потом хозяин извлек из шкафа кожаный портфель,
достал желтые листки, стал читать. Виталий Абрамович из списка
кой-каких персонажей знал, кого-то хорошо, кого-то шапочно, а за одной
даже и сам ухлестывал.
Слушал, удивление сменилось сперва восхищением, а затем - скукой, а та
- неизбежным отвращением, которое уже ничем не сменилось. Когда товарищ
отлучился в туалет (утро занималось, начало пятого), Прахов открыл
неслышно входную дверь и был таков. Слава богу, не успели телефонами
обменяться. Свое ночное отвращение Прахов и вознамерился изъяснить в
рассказе, но по мере написания, осознавал - вот оно где,
пресуществление пресловутое, зарыто: отвращение - фьють и исчезло, а
проявились на его месте тщета и бессилие, и ничего более.
Отчего так? Отчего любой замысел неизбежно тонет, а на его место
всплывает нечто совершенно иное? Отчего личный (и какой
богатый!) опыт вдруг вытесняется непонятно откуда берущимися
фантазмами, мнимостью, никогда не пережитой? Это и есть
творчество что ли? Это и есть пресуществление? Неясно.
Вот и "Пересадку на Казань" (см. в следующем номере - прим. редактора)
Виталий Абрамович почти документально списал с последних деньков своего
тестя. По сути, вроде бы так оно и было - пропал тесть, ездили по
больницам, искали, нашли, наконец, уже бессознательного в одной -
наинароднейшей, с коридорами, заставленными вперемешку умирающими
женщинами и мужчинами. А он и не подозревал, что такие больницы бывают.
Он-то думал, что такие только в тюрьмах. В облацех витал, в облацех!
Весь мир - тюрьма, хе-хе.
Пошел к заведующему отделением, дал взятку, чтобы перевели тестя в
отдельную палату, а доктор (слегка подшофе, кстати) со всем врачебным
цинизмом ему и выдай:
- Так вы хотите, чтобы он отдельно умер?
- То есть как это?
- А так: помрет он с часу на час. Мне-то конечно, приятно от вас такие
бонусы (так и сказал - бонусы) получать, но зряшное это дело, скажу я
вам. Не нужно его трогать, ему теперь ведь без разницы, отдельно он
будет лежать, или скопом, уж поверьте моему опыту.
Деньги, впрочем, не вернул, сообразил разговор на другое перевести,
причем безо всякого смущения. Прахов решил тогда, что доктора - циники
почище адвокатов будут, почище. А все оттого, что они со смертью на ты,
конкретно на ты. Виталий Абрамович ушел от доктора смущенный, накупил
лекарств, продуктов, памперсов, а когда вернулся часа три спустя (жена
все это время оставалась в палате у отца), тесть уже и отошел. Его,
кстати, действительно под другим именем записали - а как еще записать,
когда упал на улице без документов?
Но вот в рассказе вышел тесть совсем иным - одиноким безмерно,
безымянным, никому в целом мире ненужным, но и любящим до последнего
вдоха-выдоха.
В "Небесной невесте" (см. в следующем номере - прим. редактора),
впрочем, все так и было, в точности так: струсил бывший десантник,
элементарно струсил, да и не вынес сам (двойная уже трусость)
собственной трусости. И мучил, мучил, мучил бывшую свою невесту.
Признали его невменяемым: шутка ли с километровой высоты падать.
Всего-то километр - а и вся жизнь.
Это давняя история, одно из первых дел следователя Прахова. Его тогда
назначили - дело простое: не раскрылся у парня парашют, испугался,
принялся избивать собственную невесту.
Ну и не было в итоге никакого суда, ничего не было. Во-первых, невеста
сказала, что, дескать, вместе боролись за жизнь, а что битая вся
перебитая, так это от удара, когда он к ней на голову "сел". Ха-ха -
буквально на голову свалился!
Парня - в психушку. Лечили, выпускали, забирали, выпускали, забирали. А
он за жизнь цепляется, до кровавых ногтей, и вот - дожил до старости,
очень хотел жить, очень!
Хотя километр - это даже много, иной раз и несколько сантиметров все
решают, пара мгновений, одна мыслишка - это Виталий Абрамович знает по
собственному опыту: так он убил свою собственную жену. То есть не прямо
вот - взял да и убил, но косвенно - стал причиной ее смерти. Никто,
кроме него, про это знать не знает, даже и не догадывается.
Случай типичный бытовой, будничный смертельно. Жена Виталия Абрамовича
- женщина хрупкая, худая, нервная. Смерть отца переживала сильно, до
сердечных приступов. Прахов особого значения тому не придавал, счел
женской блажью, тяжелой, но формой кокетства, тем более, что отношения
их к тому времени порядком разладились, и жили они каждый своей
отдельной жизнью. Прахов в те годы работал много, мотался к клиентам на
зоны да в тюрьмы, уставал сильно, дома отсыпался, молчал, телевизор
смотрел. Жену видел неизменно страдающей, каплями пахнущей.
Однажды разбудила его (детей дома не было) - время еще не позднее,
немного за десять, он дремал перед телевизором.
- "Скорую" вызови, плохо мне, Виталий.
Она его всегда звала полным именем, и он не мог к этому привыкнуть, да
так и не довелось привыкнуть.
- Отмучаешься уже скоро... без меня, - сказала полушепотом, увидав на
мужнином лице недовольную гримасу.
- Что несешь! Зачем "скорую"?
- Сердце давит, голова раскалывается, не могу терпеть.
От нее пахло валокордином, вид бледный, черные круги над глазами.
Прахов и тут не слишком поверил, но трубку нехотя взял.
Больница недалеко, он бы и сам мог отвезти ее на машине, но не без
удовольствия вспомнил, что выпил, часа еще не прошло, полстакана виски
- куда ж теперь за руль. А еще в окно глянул - там снег метет, снег,
метель, буран, апокалипсис. Не повезу.
Набрал, вызвал, спать хотелось. Авось пройдет, авось "скорая" приедет -
посмеются еще. Стал слоняться, предлагать жене то то, то это. Она
лежала напряженно, сухо молчала.
- Вызвал?
- Вызвал. Только кто ж их знает, когда приедут. Я бы и сам отвез, но
выпил некстати. Может Саньке (старший сын уже женатый жил отдельно)
позвонить?
- Ни в коем случае - только пугать его, ему ехать не меньше часа.
Сколько выпил?
- Сколько не сколько, а выпил.
"Скорая" приехала через полчаса, еще четверть часа врач - молодой
(кроссовки мокрые от снега, наследил несносно в прихожей и в спальне)
давление мерил, расспрашивал, жена отвечала, губами едва шевелила.
Тут-то Прахов вяло решил: дело серьезное.
Повезли, он тоже сел в карету.
Повезли не в ближнюю больницу (вот аргумент адвоката Прахова - он бы
сюда привез, а ее бы и не взяли!), а черти куда, на Войковскую, далеко,
да еще пятница, хоть и к ночи дело, да снегопад, движение плотное.
Ехали с сиреной, но медленно. Привезли, а она бледная, как больничная
простыня. Пока лежала на каталке в приемном отделении, пока везли в
реанимацию...
Умерла в лифте. Умерла.
Врач спустилась, сказала так: если бы минут на двадцать раньше, то
шансы были, а так...
Фельдшер со "скорой", соболезнуя, предложил подвезти до дома - у них в
том же районе новый вызов. Поехали, и уже быстро, уже на всех парах. А
дорога скользкая, на повороте занесло - да и в столб! Праховский лик
посекло осколками, да сотрясение мозга, да перелом лучевой кости левой
руки. Жену хоронил мазанный-перевязанный. Убийца.
Вот так бытово и просто - убить человека. Что там у нас? - "Улица 1905
года". Недолго осталось.
6.
Прахов с удивлением вспоминает, что за своими мыслями напрочь забыл про
"террористку". Усмехается. Тоже ведь бытово - взвинтил себя,
нафантазировал да и остыл. Сколь это по-человечески! Ну, да черт с ней,
с террористкой. Тем более, и не видать ее - людей набилось.
Еще и недели не прошло со взрывов, а уж бояться отвыкли, наскучило
бояться. Так-то. Нету, на самом деле, никакого трагизма в жизни - а
есть один сплошной быт существования.
Нет, о своих делах у него писать не получается, не дают личные
переживания развернуться фантазии, ходульно получается, дурно.
Неспроста "Красное на красном" кануло в книжную Лету, неспроста, решил
он трезво, не удалась книга. Пытался слепить из этого Псова чуть ли не
модель человека вообще, а вышла кукла, неживая, в суставах скрип
безжизненный. Вложил своему герою Прахов мысли и чувства, которых тот и
знать не знал переживать и мыслить. Философии-то напустил. Эх. А вот
просто опиши псовские (псиные - хе!) деяния без философий - хоть что-то
было бы, хоть что-то... Мочил себе человек женщин в красном - да и весь
анекдот. А ты развез философическую перловку на шестистах страницах! Эх.
Да, стало быть, "Небесная невеста". Прахов помнит, как капитан из их
отдела рассказывал про тот полет-прыжок, про то, как приходилось им (а
куда деться-то?) безумца допрашивать всякий раз, после его визита к
бывшей невесте.
- И ведь излагает-то все складно, логично. Так излагает, что, если
молоденький дежурный в отделении окажется, то сразу и верит, хулиганку
ему шьет, в КПЗ сажает. Тот ему серьезно (и не разобрать, что
сумасшедший): вот вы, товарищ лейтенант, как бы на моем месте
поступили? Если бы ваша невеста, которую вы любили всей душой - вот
такое учудила?.. То-то.
Лейтенант смущается, мямлит:
- Что же ты за мужик, ей богу? Тоже мне удумал - бабе мстить, Да пошли
ты ее на хуй, забудь!
- Э, тебе, лейтенант легко говорить - забудь. А в ней может вся моя
жизнь...
- Жизнь - не жизнь, а на пятнадцать суток загремишь. Оно тебе надо?
Наша судья знаешь, какая строгая. Тоже баба, тоже незамужняя - по
полной вклеит...
До суда, понятное дело, не доходило: кто-нибудь из отделения,
заприметив знакомое лицо, шел к лейтенанту.
- А ты чего этого в обезьянник запер? Он же - больной на всю голову. Он
как из психушки выйдет, прямиком к своей рыжей идет - разбираться.
Перевозку вызывай, чего дурдом разводить!
Единственный случай из своей реальной практики Прахов переложил в
"Сербе" (см. в следующем номере - прим. редактора).
Ничего не прибавил, не
убавил. Все так и было. Удушение в Серебряном бору стало одним из его
последних адвокатских дел.
Серба нашли сразу. Во-первых, труп на берегу обнаружили таджики,
собиравшие мусор. Во-вторых, водитель троллейбуса показал, что да, как
раз в то время сел на конечной остановке высокий старик и ехал до круга
- один во всем салоне, как не запомнить. Пока же троллейбус стоял на
кругу, водитель наблюдал, как старик забрался в дряхлую "оку" и долго
выруливал-буксовал в сугробе - снегопад был знатный. Номера машины
свидетель не вспомнил, но цвет и прогнившие крылья отметил. Искали по
окрестным дворам (уверены были - машина здешняя), нашли через три дня -
стоит как миленькая.
Участковый с двумя милиционерами - к сербу домой, звонят. Хозяин дома,
он час назад, как жену схоронил, сидит на кухне, изучает карту старую,
еще Югославии. Собрался молча, в воронок садился в наручниках.
Прахов его и так, и сяк: а может, вы убитого знали раньше? Может, это
вы на почве неприязни? Молчит, теребит лацкан пиджачишки своего
древнего, не отвечает, точно не слышит. Кривится, точно зуб болит, лоб
морщит, пальцами по столешнице тихонько постукивает. Зачем убили-то?
Одно слово только и выдавил из себя: мешал.
Вот как? Значит-таки была неприязнь? Нет, просто мешал. Чему мешал?
Сидеть мешал.
Прахов отправился на место преступления, посидел на злосчастной
скамейке - морозец бодрящий, солнце вовсю, на той стороне -
красавица-церковь куполом блистает, глаз не оторвать.
А в Бога верите? - спросил на очередном свидании в Бутырке. Нет? Ну,
да, - подумал, - Бог не причем. Храм красивый, правда? - как бы
мечтательно произнес. Очень, - согласился серб.
Экспертиза признала старика вменяемым, за свои деяния вполне
отвечающим. Дальше - больше. Оказалось, убитый служил когда-то в
местном отделении милиции, в том самом, где Прахов стажировался.
Липатов его фамилия. Бывший адвокат его не вспомнил, но разыскал
прежних сослуживцев, и те рассказали, как в деле с "денежным матрасом"
Липатов мальчиков "колол". Так колол, что все деньги удалось собрать. А
как "колол"? На понт брал - мальчишки ж всему поверят! Своей методы и
не скрывал: так, мол, и так, не скажешь - и брата, и отца с матерью
больше в жизни не увидишь. Вспомнили, что и про школьную уборщицу
разговор был: дескать, та у младшего все тайны выпытала да следователю
передала. Все стало на свои места. Если стало.
Уговорил Прахов клиента на суд присяжных. Тот кивнул равнодушно. Речь
на процессе построил адвокат по наработанной логике - на трагической
судьбе подсудимого: круглый сирота, дитя войны, жертва сталинизма, один
на чужбине, в люди выбился, асс-шофер, только-только все наладилось,
как - бац! дети гибнут, а жена - смертельно больна... К тому же,
жертвой (и жертвой случайной, не преднамеренной!) оказался человек, не
погнушавшийся когда-то шантажировать детей... Это ли не страшно,
господа присяжные? Страшно, еще как страшно... Сорвался человек, всю
жизнь терпел, сжав зубы жил, работал, детей растил, за женой ухаживал,
надеялся, мечтал (это Прахов не для красного словца сказал - он верил,
что серб всю жизнь мечтал вернуться на родину, вот и карту перед
задержанием изучал), а тут на исходе жизни, когда рухнули
мечты-надежды, сорвался. Из одной только гордости не хочет в том
признаться. Сербы - народ гордый! Прахов в своей речи и натовскую
бомбежку Белграда, и марш-бросок российского десанта припомнил. И
присяжные вняли, присяжные расчувствовались, присяжные вынесли таковой
вердикт: виновен, но заслуживает снисхождения.
Да и судья сердобольная, Нина Владимировна Симонова, едва, казалось
Прахову, слезы держала, когда он живописал сербскую судьбу.
Срок скостили сильно.
Приговор огласили, серба увели, зал опустел. Прахов подумал горько:
мартышкин труд, мартышкин труд... Разве легче его осужденному не все
едино? Да ему любой срок - пожизненный. Вряд ли доживет он до свободы.
Да и зачем она ему? Есть, впрочем, вероятность того, что мысль о родине
его в жизни кое-как удержала. Хотя и это тоже вряд ли. Ну, допустим,
вернется он, денег скопит, поедет. Приедет и что? Все чужое, ни единой
родной души, он никого не знает, его никто не знает. Абсурд.
И еще подумал Прахов в зале суда мысль и вовсе фантастическую: убитый
следователь не причем. Будь на его месте любой другой, просто окажись
на той самой скамейке в тот самый час, серб и его бы убил. Потому что -
мешал. Потому что - солнце, как говаривал герой Камю. В этом все дело.
Чушь, конечно, несусветная, но чушь для Прахова продуктивная, поскольку
дальше его рассуждения потекли по такому руслу: и Рябец из
"Декамерона", и серб, оба - убивают своих жертв в Серебряном бору, и
оба их душат!
Но. Один убивает от никогда-незнания-красоты, а другой от
ее-красоты-утраты. Один - и помыслить таковую категорию никогда не
знал, другой же - кажется, только это и знал, но оказалась красота
предательски эфемерной, ускользающей, ускользнувшей... Да.
Опять ты за свое, мыслитель херов!
Героев "Зимнего завтрака" (см.в следующем номере - прим. редактора)
Прахов списал со своих дворовых еще приятелей - близнецов Кольки и
Витьки. Оба спились, тут все банально. Вспомнил, как кто-то из них,
кажется Колька, рассказывал как-то, что на пляже братья познакомились с
сестрами двойняшками, студентками. Оказалось - и жили сестрички по
соседству. Смеялся Колька, на свадьбу звал: а скажи - прикольно, да,
Виталик? - полная взаимозаменяемость! Чума!
Виталий Абрамович, впрочем, этих сестер так и не увидел, учеба
началась, заботы, редко появлялся в родном доме. Постепенно забылись и
Колька, и Витька, а сестры и вовсе не вспоминались.
Но вот лет пять назад грел он зимой машину во дворе. Глядит - идут две
старушки, в одно одетые, с одинаковыми сумочками, интеллигентные с
виду.
"1905 года". Прахов отвлекся, огляделся - народу полный вагон, тела,
тела.
Тетка где? Где террористка? Сидит. Край юбки торчит. Сидит, родная,
готовится. Интересно, о чем думает человек за две минуты до смерти?
Беллетристы пишут - что о ерунде какой-то, и лишь за секунды до смерти
- якобы вся жизнь у них в мозгу проносится. Чушь, разумеется. Нет, то,
что о ерунде - конечно не чушь, хотя бы потому, что кроме как о ерунде
человек ни о чем и не думает. А то распишут романтики разлюли малину -
будто симфонии Бетховена у смертников в мозгу гудят! Никаких симфониев.
Хотя в данной конкретности - совсем другое дело: эта баба восточная
сама решает, когда ей помереть. Ни от кого это не зависит.
И тут неправда: я слышал, что это не они якобы взрывают, а кто-то
снаружи... Их же наркотиками накачивают, оттого и глаза у них -
стеклянные.
Стекло ее глаз.
Стало быть, вообще ни о чем не думает. Ни о чем.
Возможно, какие-то у ней обрывки крутятся калейдоскопические, как в
плохом кино, про каких-нибудь детей нерожденных... А то пейзажи родного
аула, горы, овцы какие-нибудь на пыльной дороге... Какая-нибудь такая
небось тоска ей думается перебивчивая.
Не умер - не рожу. Быть может, как раз эти две фразы в мозгу и бьются,
между которыми ее жизнь сложена, как барахло в затхлом чулане:
рожу-умер, рожу-умер, рожу-умер... Взаимоотрицающие, из мужского рода -
в женский, из женского - в мужской...
Да, двойняшки...
Прахов решил тогда, глядя на старушек, что, скорее всего, они и есть те
самые, о которых Колька ему много лет назад говорил. Не может же по
теории вероятностей прийтись на один квартал две пары двойняшек по
возрасту. Да и по поведению - сейчас видать старожилок.
Воображение дорисует. Колька с Витькой пропали давно, это он знал.
Видели их бомжующими, видели. Соседи судачили. Потом и сами соседи
повывелись. Из всего его подъезда старожилов осталось с гулькин нос -
человека три от силы. Остальные: кто съехал, кто помер, кто спился. Ну
да, в основном - спились. Прахов подсчитал и вывел такую статистику:
двадцать квартир в его подъезде - и в шести из них люди померли от
водки.
Поезд принимается тормозить - Прахов глядит, но теперь уже и края юбки
"смертницы" не видит. Стоят там какие-то два парня. Что ж - знать не
повезло им. Или повезло.
Тьфу ты, ну ты! - рот открой, недолго осталось - терпи!
Если повезет - в худшем случае будешь ошметки чужих мозгов-органов с
лица-одежды оттирать. Впрочем, одежду можно и выкинуть, лицо умыть.
Прахов не брезглив, вернее не во всем брезглив - чужая физиология ему
не то, что противна, она его пугает. Так элементарно просто: стоит в
этом сложнейшем, неоправданно изощренном организме перебить один лишь
только нерв, сосуд, мускул - и все к черту! Зачем такая сложность?
Зачем вообще органическая жизнь, если она настолько уязвима? Отчего
природе (или там богу) не удовольствоваться было песком да камнем,
водой да газом? Все стремится к простоте, все стремится к пустоте. Не
понимаю. Хер разберешь.
Следователь из "Серба" сказал: человек - насмешка природы. Как
вырвалась эта фраза у него, то есть, разумеется, у Прахова, писатель
объяснить не сможет: вырвалась и все тут. И очень понравилась. А к
месту - не к месту - неважно. Творчество - вещь необъяснимая.
Вот и природа творит необъяснимые вещи, мать ее.
"Баррикадная"! Сейчас? Нет? Народу вышло много, и он снова увидел ее.
Но и зашло много - свято место не пусто. На сей раз профиль "шахидки"
остался в поле праховского зрения.
Непонятно, что тянет? На Пушкинской? В самом центре? На этой белой,
праздничной станции. Будь я на ее месте - я бы, конечно, на Пушкинской.
Местечко беззаботное, суетливое. Люди толкутся, в театры торопятся, в
рестораны. Напомажены, наглажены, пахнут...
Прахову остро захотелось выпить. Огляделся по сторонам, достал виски и
широко хлебнул - хорошо! Никто не покосился.
Аккурат на Пушкинской все невиновные в стаи сбиваются.
Как хороша, как будет кровь свежа - кровь алая на белоснежном мраморе!
Прахов представил: люди в панике несутся к эскалаторам, спотыкаясь,
падая, прыгая через дымящиеся трупы - лишь бы выжить, лишь бы выжить!
Ползут, ползут, червяшки.
Чтобы что? Жить дальше? Как герой "Единиц счастья"? Или "Небесной
невесты"? Лишь бы жить, лишь бы жить!
Кстати, никем не доказано, что за гробом наступит полный покой. Скорее
всего - полнейший мрак и ужас. Ад заслуженный.
Что ж тянет она, в самом деле? Что тянет эта "не рожу - не умер"?
Испугалась? Родить захотела? Альтернатива якобы у нее: либо родить -
либо убить да самой умереть. Оппозиция у ней такая: жизнь - смерть.
Но это и не оппозиция вовсе. Это все люди путают. Привыкли к
противопоставлению двух якобы равнозначных понятий - жизни и смерти. А
на деле-то, в какое сравнение может идти жизнь, короткая, слабая, едва
пульсирующая, готовая всякий миг оборваться - с царством
матушки-смерти! Всеобъемлющим, единосущим, непребывающим
и-ныне-и-присно-и-вовеки-веков-аминь? Смешно, ей богу.
Смерть и бессмертие - это да, это оппозиция.
Но лишь на первый взгляд... Присмотришься и не получается: коли есть
бессмертие, то смерти нет, а коли бессмертия нет, то опять остается -
царство матушки-смерти. Стало быть, никакой оппозиции, никакой
двойственности.
Вот главный аргумент против диалектики. Нет ничего двойственного, а
есть смерть (которая есть) - либо ее царствие, либо бессмертие. А жизнь
- что ж, жизнь мгновенный эпизод, этакое скерцо в вечной симфонии
смерти. Нет, не так (Прахов, ты неисправимый словоблуд!): смерть -
бессмертна, а стало быть, смерть и есть бессмертие.
Как хорошо после виски! Хорошо! Эх, кабы не знать о реальных
алкогольных муках, спился бы, в самом деле бы спился! Но и тут
незадача, и тут не достичь удовольствия без конца и без края. Рая.
Жизнь, как насмешка мертвой природы. Природа шутит. Как Жванецкий и
Петросян.
"За мигом миг в таинственную нить, Власть Вечности, бесстрастная,
свивает, И горько слеп, кто сумрачно дерзает, Кто хочет смерть от жизни
отличить..." - ну да. Боже, Прахов, ты стишки пошел бормотать! Ты еще
спой!
Шутка, стало быть. Вот и пошутила она над той же рыжей парашютисткой:
поманила любовью и хвать обратно!
"Пушкинская".
Рот закрой, мудила!
Закрой рот, вышла она, вышла!
Даже жалко: какой бы онлайн получился! Столько невинных - штук не менее
двадцати б полегло! Если с умом. Рожать пошла. Эх, бабы, бабы!..
Черт, а я что сижу?!
Прахов вскочил, выпрыгнул из вагона - двери кто-то заботливо придержал
для адвокат-писателя.
Вышел, озирается - вон она, на лестнице, на "Тверскую" переходит. В
глаза ее заглянуть. Загляни в глаза чудовищ и погибни страшной смертью,
славной смертью скрипача, - педофилические вирши! Сколько ж мусора в
твоей голове скопилось, Прахов, за шестьдесят три неполных года!
Она: вид сзади.
Кто ж на такую позарится? Ей бы убивать, а не рожать - к чему плодить
уродов?
Не повезло тебе Прахов. А как забавно было бы свидетельствовать при
взрыве. И чтобы соседу живот разворотило. Небось не полетел тот бы
мухой из чеховской "Степи". Прахов любил эту сценку: кучер ловит
кузнечика и муху - кузнечик деловито отъедает у мухи живот, а затем
обоих пускают на волю. Кузнечик - сразу в траву стрекотать! А муха? А
муха без живота прямиком к лошадям... Прост ужас жизни, обыден. Ибо нет
ничего кроме матушки-смерти, а жизнь - лишь тончайшая паутинка,
сотканная ею на короткую забаву. Красиво сказал, писатель херов!
Виталий Абрамович Липкин (липкий, липкий!) - Прахов.
7.
Зачем иду за ней? Ничего не будет.
Продеремся сквозь поток невинных - и на волю. Innocent when you sleep?
- ха! - innocent when you die!
Бай-бай, Шахри (Зухра, Фатима)! Сегодня не сложилось, быть может, в
другой раз. Ни пуха!
У эскалатора Прахов нагоняет двух девок в мини-юбках: мясистые зады,
толстые ляжки в блестящих колготках. Бляди.
Заходит следом, становится ступенькой ниже, вдыхает сладкий запах
разврата. Заглядывает сбоку: но как страшны!
Та, что слева, еще на что-то похожа, другая же - чудовищна.
Куда ж они? Им не здесь, им в Перове-Новогирееве на обочине стать, а
они в самый центр! Здесь бляди дорогие ходят.
Были бы хоть хорошенькими, а то - ни кожи, ни рожи. Спьяну что ли их
занесло? Или по вызову? За жопу ущипнуть, чтоб очнулись и поняли: не -
по - чину!
Этих девок, пожалуй, даже и жалко было бы, если б кто их взорвал - они
и так живут кишками наружу.
Прахов вдруг круто меняет свой план - к издателю он не пойдет. Вот и
повод: две нелепые, дурманно пахнущие девки.
И то: зачем мне по доброй воле идти выслушивать потоки велеречивого
хамства от ущербного полугнома? Увольте. Правда, девочки?
Девочки оборачиваются на него, хихикают.
Прахов внаглую отхлебывает виски, и зреет-созрел в его голове новый
план. Остается только подбить бабки и приступить к исполнению.
Он обходит девок, поднимается на три ступеньки выше, оборачивается на
них, подмигивает и щелкает пальцами - решено! Весело, весело встретим
новый год!
Взгляд его скользит вниз, останавливается на стеклянном колпаке у входа
на эскалатор - там полудремлет пожилой смотритель, и вспоминается сама
собой "голубиная" история с чеховским названием "На переезде" (см. в
следующем номере - прим.
редактора). В ней Прахов, сознательно подражая
любимому писателю, сочинил нечто вроде "Дамы с собачкой" на новый лад.
По замыслу было так: герой добивается-таки любви дамы (как у Чехова), и
сходятся в розовой будке две одинокие души, и любят друг друга нежно и
трепетно под смрадный аккомпанемент автомобильного трафика.
Герой находит счастье на склоне лет, оно и радостно, и
печально. Не скроем: Прахов искренне прослезился, когда придумал этот
сюжет. Расчувствовался.
Да и возник сюжет так: утром Прахов шел пешком от дочери к метро,
говорил по телефону с Тамарой Игоревной, обещал скоро быть, отвезти ее
погулять - утро воскресное - да хоть в Звенигород. Проходил мимо той
самой будки, и стало ему любопытно: что внутри? Чем занят путевой
обходчик (или как называется эта должность?), когда поездов нет (ходят
они тут редко)? Решил, что в крошечном - два на два - домике на краю
оживленной дороги непременно должен сидеть-лежать какой-нибудь
пенсионер, скорее всего, отставной военный. Так сказать, на обочине
большой жизни.
Приехал в Петрово-Дальнее (прогулку отложим - вдохновение!) и
писать-пресуществлять в богу-душу-черта-мать!
Тут такая вышла штука: по мере того как Прахов писал (а писал он
быстро, так быстро, как никогда еще не писывал), он все отчетливее
сознавал, что его душевных сил не хватит свести героев в любовной сцене
в этой почти собачьей будке. Что-то мешает, не сходится, не ложатся
карты. Получается ложь. Что-то такое в нем самом, что не дает. Сам бы
он никогда б не сошелся с этой дамой-с-собачкой. Чехов бы сошелся, а он
- нет. Издалека б смотрел, глазами еб, носом спускал - как говаривали в
дворовом детстве.
Из ничего и вышло ничего - импрессионизм про несбыточную любовь. Ни
счастья, ни несчастья, а печаль неизбывная.
Закончил, перечитал, отложил и вновь (на свежую голову, назавтра)
перечитал и счел рассказ готовым. Только дня через три в метро пришел
ему в голову каламбур: "Жила бы под полковником, а так под
подполковником...". В нем-то и обнаружилась Прахову вся, так сказать,
рассказова соль: хороший мужик этот Александр Матвеевич, но не орел. Не
полковник.
Прахов уже бодрым шагом идет по переходу, поднимается на Тверскую к
"Макдоналдсу", переходит сквер, оказывается на бульваре. Ярко, тепло,
можно устроиться напротив Литературного института (как бы в насмешку) и
завершить неотложное.
Прахов садится на скамейку, достает из рюкзака ноутбук, открывает -
бесплатных сетей полно, хорошее местечко.
Открывает почту и, не глядя, удаляет все, что пришло за сегодня.
(Впрочем, тут он сам себе врет: сперва-то все-таки одним глазком
пробегает экран в поисках письма от издателя: ничего).
Находит адрес Андрея Захаровича и бойко набирает в графе "тема":
"Последнее китайское предупреждение", крякает собственному остроумию,
переводит курсор в "тело" письма:
"Глубокоунижаемый..."
Ну что за прелесть!..
Но и тут же: нет, нельзя. Захаркин сотрет это сразу, читать не станет -
тогда какой смысл? Китайщины тоже не нужно, писать следует сухо, по
делу, Виталий Абрамович.
Стирает все, набирает по новой. В "теме" ставит - "От Прахова", в
"теле" - "Глубокоуважаемый Андрей Захарович!"
Задумывается ненадолго и пошло-поехало: слова подбираются легко,
свободно, гладко:
"Признаюсь, я долго и мучительно размышлял над фактом неуспеха своего
романа, и пришел, наконец, к такому выводу: коль скоро он вам на самом
деле не понравился, но вы его решили публиковать (а я даже получил
кое-какой, хотя и скудный, гонорар), следовательно, вы тоже извлекли из
публикации романа свою выгоду.
Ведь это логично, не так ли?
Именно выгоду. Ибо с вашей стороны это не могло быть:
а) минутным помутнением издательского рассудка (хотя бы по той причине,
что процесс публикации книги долог и обстоятелен);
б) скверной шуткой над начинающим писателем (поскольку вы же не свои
кровные деньги вкладываете в издание книг);
в) системной ошибкой (я внимательно изучил ассортимент вашего
издательства и пришел к выводу, что книг успешных в нем не более пяти
процентов, а все остальное - случайно, дурно, ненужно и неуспешно).
Но вас за это не увольняют!
Вот тут собака и зарыта: это - осознанная политика и ни что иное.
Вопрос - в чем ее тайный смысл? Ответ прост, как правда.
(На этом месте Прахов делает еще глоток виски).
Попутно с продукцией вашего издательства я изучил и другие
(отечественные, разумеется) книги из тех, что пользуются успехом у
читателя. И пришел в натуральный ужас.
Все они за редчайшим исключением - скверные. Тем не менее, их
рекламируют критики, они выходят огромными тиражами, получают премии.
Взять, к примеру, Пелевина. Критики и вслед за ними читатели не устают
повторять: ах, сколько в нем заложено смыслов! Только один уловишь, а
он оказывается ложным, а на его месте уж мерцает другой, там третий,
пятый, десятый... Один (но этот уж совсем без чувства юмора, даром что
бывший гинеколог) даже объявил со звериной серьезностью в Пелевине
философию! Чушь, разумеется.
Все эти с позволения сказать смыслы - обычные зеркала, сотни, тысячи
зеркал, расставленных, где ни попадя, и все они плоские, отражают
плоско, а в итоге получается бесконечное множество плоского,
банального, ненужного - вот уж поистине дурная бесконечность! Я даже не
говорю о языке этого "гуру русской литературы": он убог, неточен,
коряв. Это язык советского инженера, взявшегося изображать из себя
Достоевского или Гоголя, инженерная словесность и только. Набор смешных
и не очень анекдотов, каламбуров, гэгов. Но, ни в коей мере, не
литература. Однако, поскольку все это выдается на голубом глазу за
литературу, то ничем иным, как пошлостью пелевинские опусы назвать
нельзя. В этом Пелевин сродни самой королеве русской пошлости - Алле
Борисовне Пугачевой.
Но хватит про него, есть и прочие. К примеру, новомодный Сенчин, про
которого критики пишут так: надежда русского реализма, старый добрый
реализм возродился в Сенчине - ура! Некий же, злобноватый, шумный и
неизбежно поверхностный критик, написал как бы правду: это не реализм,
это чернуха, отображающая вовсе не современное бытие целой страны, а
всего лишь внутренний (безнадежно черный) мир автора! Но зато как
талантливо отображающий! Сей критик в хвалебном раже забывает
классическую фразу: "Мадам Бовари - это я!" Будто есть литература,
отображающая что-то кроме мира самого автора! Не было, нет и не будет
такой литературы. Тем самым, прозаик Сенчин сразу же встает в один ряд
со всеми прочими: романтиками, реалистами, сюрреалистами,
постмодернистами... А эта позиция становится для него убийственной, ибо
нет ни охоты, ни радости копаться в плоском, дурно описанном и
беспросветно черном подсознании автора. Не Толстой, не Чехов, и даже,
прости господи, не Пелевин, писатель Сенчин интересен разве что
сельскому психиатру для коллекции. Язык не повернется назвать его
убогое ремесло искусством. От искусства оно так же далеко, как табурет
от софы ар нуво!
Быть может, вы улыбаетесь, читая эти строки, и про себя решили:
рехнулся-де, пенсионер-графоман, возомнил себя Достоевским. Это не так,
не рехнулся, но об этом ниже.
А тут и моднющий Гришковец, который, если чем и хорош, так это
документальной передачей вестей с лавочек, старушечьих сплетен. И ничем
больше. Или сверхмодный Прилепин... Нет, не стану... Или, или... А ведь
именно эти люди - имеют и тиражи, и имя, и все-все-все...
Скажу и о хорошем, тем более его удобно мало: разве что Сорокин да
некогда Петрушевская. Эти да - живые классики, но их-то всего двое на
несметную рать писателей. (Тем более, что и вы руку приложили -
насколько мне известно, вы первым напечатали Сорокина - старые,
когда-то запретные его вещи. Честь и хвала!)
Итак, вы (вернее, некий обобщенный издатель) публикуете и меня, и в то
же время Пелевина, Прилепина, Сенчина, которые, да, лучше меня знают
свое ремесло, но отнюдь не искусство.
Я говорю это ответственно именно теперь, когда понял все слабости
своего "Красного на красном": растянут, философичен, рыхл. Сегодня я
бы, возможно, написал его по-другому: жестче, энергичнее, расставил бы
рэперные точки, а уж читатель бы сам разобрался, что к чему. Но ведь вы
не вернули мне его, не стали марать руки редактурой, разве что
попросили сократить (бумагу сэкономили). Следовательно, вам это было
для чего-то очень нужно. Именно.
И вот для чего. В старые времена (уверен, что и сейчас тоже), хозяйки
домов терпимости практиковали такую штуку: вместе с проституткой
некрасивой ставили на панель еще и проститутку страшную. Я - не побоюсь
этого слова - сослужил вам службу именно страшной проститутки, дабы на
ее фоне заиграла сомнительными своими прелестями другая, некрасивая.
Только так.
Вся издательская деятельность (не ваша только, а вообще вся) на том и
стоит: когда нечего предложить, выпускают страшную в пару к некрасивой.
Чтобы эта подмигнула господину в котелке и с тростью (публике, то
есть), оценивающему блядей с противоположного тротуара (Прахов хлебнул
виски), смотри, барин, какая я аппетитная!
В эффективности блядского тандема я, кстати сказать, убедился самолично
десять минут назад на выходе из метро.
Следовательно, уважаемый Андрей Захарович, я для вас этакий навоз,
удобрение для взращивания высокой словесности. Только выходит, что
удобрение негодное, просроченное, поскольку весь урожай ваш - на корм
скоту.
..............................................................................................
И последнее. Прошу вас настоятельно, рассказики мои, о которых вы так
пренебрежительно отозвались (я уверен, вы их и не читали вовсе),
сотрите из своей собственной и из компьютерной памяти - я не желаю
более быть навозом, будоражить чужое обоняние. Тем более, что я очень
уверен: они получились. Они, во всяком случае, ничем не страшнее ваших
некрасивых проституток, и уж точно - не безобразны.
Это мое вам литературное завещание.
Примите и проч(ь).
Ваш Виталий Липкин.
(Хватит псевдонимов! - раздраженно пробормотал Прахов).
Все.
Если вы полагаете, что Прахов уже кликнул "отправить", то ошибаетесь.
Да, он написал письмо, разбавляя набор глотками виски, допил бутылку и
шепнул: истерика.
Вернулся в графу "тема", стер написанное, оставив только точку. "Тело"
же и вовсе оставил пустым. Занес было палец для последнего клика, но и
тут задержал.
Да что я, что я, в самом деле! Истерика в квадрате. Ничего не надо.
Закрыл ноутбук, убрал в рюкзак, встал, пробормотал: Стекло ее глаз...
Стекло ее глаз...
Бросил в урну порожнюю бутылку, зашагал к метро.
II. Декамерон
Лицом Рябец походил на череп: худое, с глубоко сидящим белесым взглядом
и приоткрытым ртом - вечный оскал крупных желтоватых зубов. В школе за
глаза его и звали Черепом, но в глаза опасались, кличку дали по фамилии
- Ряба.
Теперь, когда он разменял шестой десяток, черепное сходство обратилось
общескелетным: худоба и костистость.
За завтраком Рябец читает криминальную хронику в МК: пока размолотит
ложечкой попку яйца, пока облупит, пробежит про пропавшую в тайге
красноярской второклассницу; откусит-пожует бутерброд - про пьяного
офицера, застрелившего солдата, отхлебнет глоток суррогатного кофе -
про...
Из заметки "В Серебряном бору работала частная тюрьма с пыточной
камерой" узнает: менты задержали на улице среди бела дня голого бомжа в
наручниках, с проломленным черепом, со следами побоев на теле. Бомж,
назвался "Андрюхой" и успел сообщить, что его пытали в подвале
"электричеством и клещами". Адрес прошептал: Вторая линия, 43. Смолк.
Довезти "Андрюху" в 67-ю больницу не успели - помер в "скорой", не
приходя в сознание. Менты - по адресу, но тюремщиков и след простыл.
Зато и тюрьма знатная - три клетки и еще: электрошокер, щипцы, дыба,
испанский сапог и прочая всячина. Два трупа - и тоже серебряноборских
бомжей. "Ведется расследование".
Рябец отложил газету, поглядел в окно - июль, марево, жара, духота.
Покончив с завтраком, сложил в пакет "Marlboro" полотенце, плавки, три
больших бутерброда с колбасой (тщательно завернул в ту же газету -
протухнут), бутылку воды, бутылку портвейна "777", пластиковый стакан.
Рубашку с коротким рукавом заправил в брюки, на ноги - сандалии.
Троллейбусом две остановки до Калужской, и в метро - до "Китай-города".
Маршрут вспомнился сам собой, хотя в последний раз он ездил им еще в
начале 70-х, когда "Китай-город" звался "Площадью Ногина". Пересадка -
и по сиреневой ветке до "Полежаевской". Оттуда спросит.
В окне троллейбуса за эти годы не особо и изменилось: пыль-дома-тополя.
Вот мост дугой, и слева тоже мост - с красными вантами, новый по всему.
За ним река и Крылатские холмы. Троллейбус нырнул с горки, остановился
на площади. Рябец вышел.
Несколько улиц веером, заборы, за ними - сосны, высокие крыши дач.
Рябец посмотрел направо - где-то здесь. Там была пивная, нет теперь
пивной. Они тогда из пивной пошли на дачу. Он не пошел, он обиделся, он
домой. Болт у него книжку забрал. Щелкнуло в памяти слово -
"декамерон". Ну да - дождь ледяной-колючий сечет по пожарищу, в черной
жиже каблуком поковырял - обложка обугленная, синяя, буковки витые,
затейливые, Болта книжка. Осенью приезжал, перед армией. А как туда
было не съездить?! Нет, потом.
Жарко, какой портвейн? - купил в киоске пиво и круто влево, в лес.
* * *
Рябец уже успел поспать. Здесь же под ивой. Разморило пиво-солнце.
Скорее дрема с быстрыми снами, в них плеск воды, детский визг, женский
шепот насмешливый прямо над ним. Глаза приоткроет - никого,
штиль. Закроет и по новой - визг, плеск, шепот. И шуршание - пакет
крадут?! Никого, дурман полный. Сел, солово глядя на реку, на белую
церковь на том берегу - наискосок.
Внизу - ногу вытянуть - чуть плещет-переливается вечерняя вода. Музыка,
смех, шашлычный смрад из-за забора на платном пляже. Стучит
волейбольный мяч. Чуть ближе в шезлонге - женщина с книгой. Вид со
спины: короткая стрижка, складки на шее, край очков, задница. Рябец
лезет рукой в плавки, теребит, теребит - без толку. В душе киснет вялая
злоба - поперся ведь в такую даль! За пол-Москвы, да что - за всю
Москву!..
К женщине подходит другая - помоложе, склоняется, что-то говорит, -
белая грудь лезет сдобой из голубого купальника. Рябец опять в плавки -
мнет остервенело - ничего. И купол сияет назойливой насмешкой. Недобро
косится на церковь, мнет, мнет. Краем глаза замечает, что сдобная за
ним наблюдает - на лице помесь отвращения с любопытством. Вытаскивает
руку - а просто почесался...
Встает - плавки свисают сзади мешком - сковыривается с берега, шумно
плывет. Вода не освежает - слишком тепла.
Рябец медленно курсирует вдоль берега, посматривая за сдобной. Вроде и
плевать - подумаешь, возбудился; но и неудобно тоже - козел
престарелый.
Сдобная уходит, Рябец - к берегу. Вытирается, достает "777": пить - не
пить? Нет, сперва туда. Съедает бутерброд, еще раз глядит в газете
адрес, одевается, уходит.
Сначала идет берегом, обходит пляжный забор, и тут же в молодом сосняке
натыкается на голых мужчин - лежат причинами кверху. Рябец стороной,
стороной, но дальше - новые нудисты, ловят солнце, растопырив руки.
Пидоры - бормочет, забирая левее. Старается не смотреть, но невольно:
заросли вдоль реки набиты голыми мужскими телами. Плюет: посреди ведь
Москвы!
Сладострастно воображает, как взрывает тротил - гениталии по кустам
ошметками - не собрать! Кровавая фантазия успокаивает, Рябец
углубляется в лес, тропами выходит к Бездонке.
Вечереет, толпы людей тянутся с берегов к выходу из парка. Рябец почти
передумал навещать газетный адрес - устал, домой. Идет по Таманской
улице, слева на другой стороне замечает вывеску "Вторая линия". Стоит
мгновенье и сворачивает - зря, что ли ехал?
Улица неожиданно тихая - дачи за забором. Башенки, портики, балконы.
Словно и нет рядом полуголого, истомленного жарой люда. Ворота "№43".
За ними - новый красного кирпича дом в три этажа. В таких, по
представлениям Рябца, живут министры и олигархи. Впрочем, дом
производит впечатление нежилого. Рябец как бы нечаянно толкает калитку
- та подается с легким скрипом.
Этот дом стоит на месте сгоревшей дачи, полянку за ним с полукругом
высоких сосен Рябец узнал. Но тюрьма? Строительный мусор, рамы-двери в
заводской упаковке, крыльцо не доделано. На двери желтая полицейская
лента - стало быть, вот тюрьма.
Осторожно отцепляет ленту, открывает дверь: внутри полумрак, справа
угадал лестницу. Нащупал на стене выключатель, и вниз. Точно - три
клетки, сваренные из толстых прутьев. Перед ними стол, два стула,
механизм, похожий на сварочный аппарат - менты поленились вытащить? На
полу - бурые пятна, битое стекло. Пытали - чего не пытать?! Хе! Бомжи,
человеческий материал, хе!
Рябец не задерживается - все как в газете - поднимается, гасит свет,
выходит, прилаживает обратно ленту. От той дачи ни следа, словно и не
стояла... Домой.
Однако перед тем как выйти на улицу, решает взглянуть-освежить, где
сидел-сторожил когда-то. Вон там, вон там... Постой, постой...
В кустах сирени за соснами, ровно в том месте, замечает на земле
фигуру. Позыв бежать гасит сразу: станет мент сидеть в кустах в
раскоряку! К тому же по всему - баба. Рукой машет. Идет, оглядываясь по
сторонам, нет ли еще кого? Есть - в ногах у бабы пес голову поднял на
Рябца.
- А выпить есть? - спрашивает она. - Ты кто?
Точно баба, и пьяная - из расстегнутой розовой кофты две кожистых
складки сползают на живот. Ноги целлюлитные в белых носочках
растопырила широко. Бездонка, хе!
Пока Рябец ее рассматривает, баба достает из пакета (точь-в-точь как у
него - "Marlboro") бутылку (точь-в-точь как у него - "777"),
запрокидывает и выливает в глотку немногую оставшуюся жидкость.
Порожнюю посуду ногой в сторону.
- Командир, налей стаканчик! Видишь, ни глоточечка! А я жене
твоей ничего не скажу - бля буду.
Лицо плоское, темное, щели глаз, шеи нет, все без формы. Бифштекс! -
мыслит Рябец по-кулинарному.
Но и что-то неуловимо знакомее... Что?
- Ря-я-ба? Ряба-а-а! Рябец! Ты? Да ты, ты! - баба встает на карачки,
разгибается, поднимается навстречу колченого, точно на протезах. Пес -
тоже встает, зевает, виляет хвостом.
Буратина! Ни хера себе - Буратаева!.. - вскрикнулось внутри.
Раскоряка обернулась эротической мечтой Рябца - Надькой Буратаевой,
Буратиной, как звали ее в школе. Была в этой кличке точно насмешка над
ее приплюснутым, отнюдь не буратиновским - полукалмыцким носом.
- А ты все такой же, Ряба, все такой... Только усох чутка, хи-хи-хи!
Дрочишь по-прежнему?! - Буратаева в метре, Рябец чует ее кислый дух. -
Чего стоишь? Наливай! За встречу! Не побрезгуешь с Надькой Буратаевой
выпить? Сколько ж лет прошло? А? Уж тридцать, не меньше...
Рябец лезет в пакет, тащит бутылку и стакан, зубами - пробку, наливает,
протягивает Буратине. Сам - из горлышка.
- Ну, рассказывай, где ты, что ты?
* * *
Рябец сидит под сосной напротив Буратины. Отголоски ее судьбы всплывают
сразу: горела на пожаре, прыгала, ножки поломала, хребет отбила,
лечилась долго, да за увечьями обнаружилась беременность. Мертвым,
впрочем, родился. И покатилось. Содержали родители - пила, потом
любовник (рецидивист) - пила, его посадили - пила, родители померли -
пила, еще беременность - пила, выкидыш - пила, все продала - пила,
квартиру тоже - пила, исчезла - пила.
- Это Полкан, - знакомит она.
Рябец кивает, собак на дух не переносит.
- Ты не ссы, Ряба, не тронет. Он с рождения со мной. Его Андрюха
принес, еще щенком, вот та-акусеньким... Ты не представляешь, Ряба, как
я рада тебя видеть! - Буратина икает.
И без связи с радостью:
- Пивную давно закрыли, еще при Горбачеве. И магазины позакрывали. За
мост ходим, на Прибоя. Я, Ряба, тут уже лет десять живу - за Бездонкой.
Теперь вот на Казанский поеду, на вокзал. Место, говорят, сытное - да
хоть дыни с поездов разгружать у чучмеков. У вокзалов не пропадешь. А
здесь - ни за грош.
- Почему? - Рябец вспоминает утреннюю газету.
- А не знаю!.. - разводит руками Буратина. - Все подевались. Вот и
Андрюха. Обещал: мы, Надюха, на Казанский поедем, я тебя не брошу. И
где Андрюха? Кирдык, хи-хи-хи...
- Чего хромаешь?
- Я хромаю?! Я чего хромаю? А чего я хромаю? Я знаю, чего я хромаю,
знаю... Но тебе не скажу. Ни-ког-да!
И бормочет почти про себя: "Может я - госпожа де Лавальер!"
- Слышь, Ряба, я хромаю, потому что я госпожа де Лавальер!
Если бы Рябец умел формулировать свои эмоции, получилось бы примерно
так: "И эту женщину я вожделел когда-то? Ее? Я? Невероятно!". Рябец
морщится.
- ... я как жива-то осталась, не помню, Ряба. Я со второго этажа ка-ак
гикнусь! Обе ноженьки поломала. А могла задохнуться. А они там все
задохлись - и Алик мой, и Лидуха, и те двое, не помню, какие. А этот,
жирный, который картинки с бабами носил...
- Болтянский?
- Во, Ряба, точно! Задохся...
И вдруг подмигивает:
- А ты почем знаешь?
- Что?
- То! А помнишь, как ты сох по мне, Ряба? Помнишь? Хи-хи-хи! Сох, сох,
знаю! А я тебе не дала! Кому надо дала, а тебе не дала.
Замолкает, принимается раскачиваться из стороны в сторону.
- А правда, здесь тюрьма была?
- Точно - была!.. - и непонятно, спьяну болтает или всерьез. - Я тебе и
сейчас не дам, ты не думай! Ты не смотри, что старая... Ты тоже - не
орел. Ты - кащей. Тебя Черепом прозвали, помнишь?
Помолчала, и неожиданно:
- Андрюха вот пропал. И Кирей пропал, и Сабель пропал. Нас в трубе
четыре, то есть вчетвером жило... Одна я теперь... Андрюха неделю как
ушел, сказал - спирта притырит... Не притырил... Здесь страшно, Ряба.
Вот Полкана куда? А? Его на вокзал не пустят. Может себе возьмешь?
- Куда мне.
- Ну да - куда... Ты тоже, я вижу, портвешок попиваешь! Как в детстве.
Что, не заработал на коньячок, Ряба? Ты кем работаешь?
- Поваром.
Буратина свистит:
- В ресторане?
- В столовке. В университете негров черножопых кормлю. Зато от дома -
десять минут.
- И что ты им варишь?
- Да все варю, и гуляш, и гречку, и щи...
- А скажи, ты фуа-гра пробовал?
- Так то - название: гусиная печень. Чего ее пробовать, ее в
рассольник, потрошки - в самый раз. А еще - огурчики чтоб плотные,
лучше маринованные.
Рябец наливает Буратине.
- Со свиданьицем! - хлебнул из горлышка.
- Я тебе, Ряба, знаешь, почему не дала? Ты с виду сухой, а внутри -
тьфу. Такой. Тебя наши девчонки не любили - у тебя взгляд, будто
лапаешь. Глазами лапаешь, носом - спускаешь, хи-хи-хи! Вот Болт
покойный тоже такой, но его жалко было - кто ж ему, жирному, даст? Он
картинки срамные таскал, а ты ссал, только подначивал. Э-э-эх! Жаль
Болта! И Месропыча жалко, хоть и гаденыш.
- Чего жалеть? Их все равно нет.
- И поди ж ты - ни одного седого волоска... - бормочет
Буратина.
Как разглядела? - они сидят в полной темноте, уже и лиц не различая
друг друга. Буратина курит, запах дешевой горечи. Рябец встал
помочиться. Не стесняется.
- На могилку не нассы! - кричит Буратина.
Рябец молчит.
- Слышь, Ряба, а я вот подумала - может, я к тебе? Страшно мне, даже с
Полканом (пес хрипло ворчит). Помоюсь... Ты ж один живешь? Мать-то с
отцом померли?
- Померли.
- Уж не помню, когда в чистоте спала. Чего мне здесь? Андрюху-то убили!
И Кирея... и Сабеля... А ты, Ряба, не женился?
- Нет.
- А чего? Прынцессу ждал? Или меня, хи-хи-хи! А, может, я тебе и дам
сегодня, а Рябец... - журчит Буратина.
Порой не понятно - пьяна она или притворяется.
- Ты не ответил, Ряба, чего не женился-то?
- Женилка не выросла.
- Хи-хи-хи! У тебя-то? Ни за что не поверю! А под моим окном, чем
дрочил? Я помню...
* *
*
- А первенький мой вон там лежит, - она кивает в сторону забора, где
чернеет куст жимолости. - Как думаешь, косточки от него остались?
Рябец представляет себе полуистлевшие детские кости, возможно, похожие
на куриные, - не на говяжьи же.
- Да нет, столько лет - какие косточки!.. Разве череп... Или берцовые,
они толстые.
- Ты повар, тебе виднее. И второй рядом. Я его ночью прикопала, снег,
помню, валил, ноябрь.
- Первого ты от Месропыча нагуляла? - Буратина кивнула-икнула. - А
второй чей?
- Не знаю, я со всеми спала. Засну под одним, проснусь - другой жарит.
Кобелям волю дай! А доченька - вот лежит, прямо здесь. Девять лет ей
было бы... Налей, что ли...
Рябец плеснул в стакан, Буратина пьет жадно.
- Доченька от Андрюхи. Мы там жили, где теперь беседку построили. Труба
у нас была из бетона, вот такая - Буратина руками пытается обозначить
диаметр, - мы в ней годков пять прожили. Или больше... С Андрюхой и с
Сабелем, а Кирей, он потом прибился...
- Ты что же там и рожала?
- А где ж еще, скажешь ведь! Андрюха нож на костре прокалил, пуповину
отрезал. Я девочку, доченьку мою хотела этим подбросить, у кого дом
побогаче. Думала - что хоть ей жизнь выпадет... Только померла она
через неделю... Как раз, когда подбросить хотела. Андрюха питание ей
детское носил, на Живописной у него в магазине кассирша знакомая, тетка
добрая - бесплатно давала. И молоко, Ряба, и кашу... У меня какое
молоко, сам знаешь... Девочка моя...
Буратина гладит рукой землю и плачет неслышно, так, что только по
хлюпанью носа и понятно.
Шумы за забором стихли совсем, лишь изредка прошуршит невидимая машина.
- Хорошо было, Ряба, когда в трубе жили... Даже зимой, как во дворце! С
одной стороны вход закопаем, с другой - тряпок понавешаем. Надышишь
вчетвером - красота! Зал Чайковского! Только окон не было, да и на что?
И менты не доставали: придут, посмотрят, уйдут. Лейтенант Бессонов
такой был - пожилой уже, нос красный, пьянь. Покурить на костерок
приходил, говорил, что в отставку выйдет, к нам переедет, хи-хи-хи!
Только удочки из дома возьмет, а больше ему ничего не нужно - так
говорил. Шутил, ментяра... Потом пропал. А менты озверели! Два раза
поджигали - все мои наряды, Ряба, сожгли! Да что наряды - матрасы! Мы
под мост перебрались, потом к церкви, знаешь - за мостом? А теперь,
Ряба - все, пиздец!
Буратина шелестит, Рябец слушает.
- Еще налей, напьюсь я сегодня, как в последний раз, Ряба! Жизнь у меня
горькая... А тут на Казанский ехать. Там, небось, свои порядки, там
небось бляди вокзальные вершат!
* * *
- А ты думал - не знаю? Хи-хи-хи! Это ты дачу сжег, Ряба, ты! Бля буду,
ты!
- Брось болтать.
- Ты меня всегда хотел, помню, как смотрел на меня, как под окнами
ошивался - подсматривал! Хи-хи-хи! - голос Буратины осип до полной
почти неразличимости. - У тебя берет еще был, коричневый. Ряба в берете!
Рябец эти осенние вечера хорошо помнит: он действительно ходил под окна
Буратины, благо жила та на втором этаже, высматривал - на
окне-то лишь тонкая пелена тюля, а Буратина по комнате щеголяла в
трусах - в белых, тугих. Перед сном рассматривала себя в оконном
отражении - зеркала, что ли не было? Груди свои трогала, живот, бедра.
Эти минутки были для Рябца главными. Он и не подозревал, что Буратина
делала это для него - ночного соглядатая.
Буратина говорила правду - в школе Рябец глаз с нее не спускал, это все
знали. Крался после уроков, уставившись на ее крепкие, кривоватые ноги,
вожделел. И она, зная, дразнила - то ножку выставит в проход между
партами, то прижмется как бы нечаянно грудью, то рукой нечаянно
коснется естества... Дразнила его, и он в эротических видениях всякую
ночь истязал ее изощренно, как только способна была юношеская фантазия.
Порнографию, что исправно приносил в школу Болтянский, никто из
одноклассников не усваивал так живо и буквально, как Рябец. Наутро
приходил в школу серый с недосыпа, скучный.
После пожара узнал, что Буратина выжила, лежит в больнице, беременная.
Навестить ее побоялся. А вот пепелище навестил перед самой армией.
Служил три года не пыльно - при гарнизонной кухне в Балтийске.
Демобилизовался, пришел под родные окна - нет Буратины. Отец-калмык
смотрит телевизор в соседнем окне, мать - хлопочет на кухне. Две недели
ходил - темно.
Поступил в кулинарный техникум, окончил, попал в столовую, где и
работает по сей день. Жил замкнуто, особенно после того, как один за
другим умерли сильно пьющие родители. Не женился - как жить с чужим?
Тешил природу (время от времени - в дни аванса и получки) вокзальными
проститутками, которых после соития гнал. Знай они, что вместе с
эякуляцией он едва сдерживал в себе желание их придушить, благодарили
бы судьбу.
Потом перешел на самообслуживание, благо прогресс: такой коллекции
порнофильмов, пожалуй, ни у кого в Москве не было.
* * *
- Болт лучше тебя был - просто жирный. Он под окном не дрочил, ко мне
ходил честно - просил: дай, Буратиначка хоть разок, чего тебе стоит...
Хи-хи-хи! Ко мне спускался, в одном подъезде жили, помнишь? - типа по
биологии у него вопрос. (В биологии Буратина была умницей, хотела в
медицинский поступать). Придет, сядет, засопит, как кашалот... Книжку
мне эту носил, как ее?.. Про итальянцев, которые истории
рассказывают...
- "Декамерон".
- Во! Говорил, у родителей натырил. Вслух читает, а сам
ляжкой жмется... А воняет, Ряба, от него сладко, одеколоном -
полфлакона на себя выливал, чтобы я дала. Я даже думала - может дать?
Чего парню маяться? Но решила - сперва Месропычу... Чтоб он меня это,
распечатал, хи-хи-хи! А потом - поглядим-посмотрим! Кобельков много,
правда, Полканище? - Буратина опять чешет псу загривок. - Я же блядь! Я
бы и Полкану дала - да исцарапает животное, что с него взять, хи-хи-хи!
Рябец помнил, очень хорошо помнил. Помнил, как Буратина, единственная в
классе на зависть другим девчонкам и к вящему недовольству Пичуги - их
классной - носила ажурные колготки с рисунком, от которого у Рябы
начиналось сердцебиение.
- А помнишь, Ряба, в той книжке историю, как одна ему свидание
назначила в своем доме? Он приходит, а служанка: типа обожди пока, муж
там... А сама эта с другим мужиком развлекалась. А этот-то на холоде
всю ночь! Прямо как ты! Хи-хи-хи! А потом отомстил ей - на крышу что ли
загнал... А?
Буратина берет бутылку и одним глотком допивает.
- Фу-у-у... Ладно, Ряба, один хер - ничего не воротишь... Ни Болта, ни
Месропыча, ни Лидуху... Остальных не помню... - Буратина валится вдруг,
сперва на бок, потом ничком. - А тебе, Ряба, не дам. Хотела дать - да
не дам... Спите, детки мои ненаглядные...
Руки ее гладят жесткую траву, стихают.
У Рябца болит голова. Он закрывает глаза. Надо бы вставать, поздно - не
ночевать же здесь, на костях ее детей. Или врет, полоумная? Хотя нет,
что-то и разумно говорила. Странный день - словно жизнь. А
все газета.
Мать не сдала, когда следак приходил. Он спросил: может, кто ссорился с
Месроповым, или с Болтянским, а то - с Буратаевой? Из класса, может,
кто мстил? Или просто по пьяни-хулигани? Всех выспрашивал следователь -
к кому-то приходил, кого вызывал... Потом решил: случайность - окурок.
И то - сушь какая стояла! Как теперь. А то и суше. Торф горел, точно.
Дым. Люди кашляли.
Треск, боль, горячо! Рябец раскрывает глаза - Буратина, рука задрана, в
руке бутылка - хищный отблеск луны на разбитых краях. Убьет! Он вбок,
Буратина падает - скрежет - розочка вонзается в песок.
- Сука, - свистит он, вцепляясь руками в ее плечи, прижимая ее к земле.
- Убить хотела?
Буратина молчит, мгновенье ее спина под руками Рябца напряжена, вдруг
обмякает. Он упирается в нее коленями, переместив руки на шею. Кровь
его капает черными каплями на ее волосы. Пахнет свежей мочой. Нащупав
щитовидный хрящ, он давит, давит его с обеих сторон, живо представив
себе анатомию - тихий свист как из велосипедной шины и молчок. Тень
Полкана в стороне виляет хвостом, поскуливает: Надя, Надя!
* * *
- Ты не читал "Декамерон"!? - воскликнул Болтянский
Болтянского Рябец не любил: что толстый - полбеды, вот руки маленькие,
липкие, ногти ухоженные - это да. Ко всему Болтянский таскал в школу
порнуху - тусклые, многажды переснятые фотографии. Пышногрудые девки с
сероватыми телесами (следствие пересъемок) оседлывали мускулистых
мужиков. Или же подставляли пухлые зады. Или же растягивали губы.
Стоило взглянуть, и точно по полу растаскали клубничный джем.
Болтянский показывал фотки из рук, держал цепко розовыми пальчиками.
Если для других просмотры стали привычным развлечением, то для Рябца
иначе. Липкое ощущение переродилось в ужас женского прикосновения, будь
то рука, локоток, нечаянная грудь или невинные волосы. Даже материнская
ласка, по счастью, крайне редкая, отвращала: стоило подвыпившей
Прасковье Федоровне провести рукой по его волосам, нутро сжималось и
тошнилось.
- А еще "Озорные рассказы". Это Бальзак, - проповедовал Болтянский, они
шли из школы.
- Дашь почитать?
- Завтра принесу. "Декамерон" принесу, Бальзака - нет. Бальзак у нас в
собрании - предки заметят - не велят книги давать. Да "Декамерон" лучше
Бальзака. У Бальзака один прикольный рассказ, как он женщиной
переоделся, чтобы ее выебать. Ну, в смысле - подружиться сперва, то да
се, а потом - выебать. А в остальном - скука. "Декамерон"
интереснее.
"Декамерон" Болтянский принес, - толстый синий том с изящной вязью
названия, и срок объявил - две недели. Рябец полистал желтоватые
страницы и отложил. Начинались выпускные экзамены.
* * *
- Ты прикинь, только с нее слез - звонок! Она к двери, кровищу
оттирает, перепуганная - кто там? А Болтянский: это я, Надь. Она: о,
черт! чего тебе!? А он: пойдем погуляем? Ха-ха-ха! - Месропов чуть не
валится от хохота. - Не, ты прикинь: погуляем!
- А она что? - сухими губами Рябец. Они с Месроповым стоят во дворе
школы. Выпускной вечер начнется через полчаса, все уж на взводе, уже
вполпьяна делятся новостями.
- А что она - чуть со смеху не покатилась. Ну, я сзади подкрался, пока
она с ним через дверь говорит, и вдул по первое число! Видел бы Болт,
чем мы в десяти сантиметрах от него занимаемся!
Месропов еще полгода назад поклялся, что перед выпускным вечером
"сломает целку" какой-нибудь из одноклассниц. Красавец жгучий,
волоокий, девочки от него без ума.
- Только кончил, он опять: Надь, а Надь (Месропов передразнил скрипучий
голос Болтянского), пойдем погуляем... Ну я дверь распахнул!.. как был,
без трусов, в майке! И гандон в руке болтается - лови! Болт глаза
выпучил и бежать! Ха-ха-ха!
- А она? - быстро дышит Рябец.
- Кто? Надька? Надька хороша, Ряба, хороша - подмахивает как надо!
Полдня сегодня с ней кувыркались, Фу-у-у! Чуть на ногах стою... А то
едем завтра в Серебряный бор, Ряба? У Надьки подруга Лидуха -
маленькая, а титьки во-от такие! Я бы с Лидухой, но Надька... Там
хорошо, в Бору. Не был? Кустов - завались!.. "И под каждым ей кустом
был готов и стол, и дом!.." Ха-ха-ха!
Подошли еще одноклассники, Месропов принялся пересказывать свое
приключение.
- А Болт мне "Декамерон" дал почитать, - говорит Рябец, когда тот
закончил.
- Что-о-о? "Де-ка-ме-рон"? Ну, ты даешь! Детский сад этот "Декамерон".
Ты "Луку Мудищева" слышал? Весник исполняет. "Весь род Мудищевых был
древний, имел он вотчины, деревни и пребольшие елдаки!.." Приходи,
поставлю! "Декамерон", ха! Детский сад, Ряба, детский сад!
- Все от воображения зависит, - веско вставляет интеллектуал Трегубов.
- Иных и замочная скважина возбудит... А по мне "Декамерон" очень
ничего. Кватроченто, пир во время чумы... Италия! Это не Русь. Там не
девушки - синьорины! Не сосны - пинии!..
Трегубов знает, что говорит: в свои неполные семнадцать он единственный
в классе бывал за границей, как раз в Италии жил. Отец его работал в
советском посольстве в Риме.
- Пинии? Это что-то типа минета? - Месропов.
- Нет, амиго мио - это средиземноморская сосна. Небо - чистейшая
лазурь! Море! Солнце!
O sole mio
sta 'nfronte a te!
O sole, o sole mio
sta 'nfronte a te!
sta 'nfro-о-о-оnte a te-е-е-е! - поет Трегубов, срываясь на фальцет.
- Карузо недорезанный! - с уважением Месропов.
Во двор входит Болтянский в черном костюме, узком черном галстуке.
Черные волосы зачесаны назад, намазаны, блестят. Увидев Месропова, чуть
сбивается с шага, щеки расцветают алыми пятнами.
- Эй, пиния, - кричит кто-то, - пойдем, погуляем?!
Дружный хохот.
* * *
На ночь Рябец в школе не остался, получил аттестат, ушел. Когда
спускался из актового зала, его догнал Болтянский.
- Уходишь?
- Тебе-то что?
- На танцы не останешься?
- В гробу видал.
- Книжку когда вернешь? Родители спрашивали. Прочел?
- Не до конца - экзамены. Завтра дочитаю, я быстро.
Мимо поднимается Буратина, - напудренные щечки, высокие каблучки,
короткая юбчонка, кружевные колготки, и по всему подшофе - странно
хихикает. Поравнялась с приятелями - Болтянский облизывается. Еще три
ступеньки вверх и останавливается.
- Ряба, выпить хочешь? Ребята в спортзале, у них осталось.
- Не, я домой. Голова болит.
Рябец глаз не оторвет от буратининых ног. Она улыбается.
- Да-а-амо-о-й... - тянет насмешливо. - К ма-амке... А то
приезжай завтра в Серебряный бор. На Третий пляж. Знаешь? Мы
купаться, часов в пять-шесть, как проснемся. У подружки моей, Лиды, там
дача, предки сваливают - так что...
- Хорошо, - хрипит Рябец, и вниз.
- А ты что? - слышит насмешливое, обращенное к Болтянскому. - Гулять
хочешь? Хи-хи-хи!
* * *
Болтянский позвонил часа в четыре:
- Едешь? В Серебряный бор. Забыл?
- Далеко.
- Да чего - можно остаться. У Надькиной подруги там дача.
- Не знаю, может и поеду...
- "Декамерона" возьми, мне предки плешь проели.
- Ладно, - Рябец кладет трубку.
Следом неожиданность: Буратина! Звонит! За все десять лет, что они
проучились в одном классе, это впервые!
- Ряба, привет! - голос сдавленный, будто слезы сдерживает. - В
Серебряный бор поедешь? Меня возьми.
Сердце Рябца колотится: радость! Но и страх: вообразив Надю в
купальнике, он не представляет, как быть ему? - плавки-то топорщатся!
- Ладно...
- Тогда я зайду? Через часок?
Рябец кладет трубку, бежит в ванную. Он решает, что если сделать это
несколько раз, то, может, и обойдется... Мечется по квартире - то
волосы зачешет то назад, то на пробор; то рубашку сменит, то рукава на
ней закатает, то раскатает. Еще? А вдруг она войдет, он ее поцелует,
она ответит, и...
Звонок. Не в дверь - телефон. Она.
- Слышь, Ряба, я тебя на остановке жду. А то приду, а ты меня
изнасилуешь! Ты на меня вчера та-ак смотрел! Хи-хи-хи!
О-о-о!..
Рябец хватает сумку с полотенцем, кидает туда "Декамерона" - вспомнил
вдруг, выбегает на улицу.
На Наде желтая кофточка, верхние пуговки расстегнуты, там грудь. Ну и
мини. Лицо помято: пила-гуляла всю ночь, на шее сзади пятно - засос?
Глаза, и без того полукалмыцкие, подзаплыли - обильная тушь на ресницах
это подчеркивает. Духи - за версту. Рябец глядит, и радость вперемешку
с ужасом пузырятся внутри.
Едут долго: троллейбус, метро, пересадка, метро, троллейбус. Рябец
ловит на своей спутнице взгляды - похотливые мужские, сморщенные
женские.
Рябцу никак не понять, почему она не с Месроповым? Загадка. С
Месроповым - резон, Месропов и на такси отвезет. До самого пляжа. У
него родители - богатющие!
Троллейбус переезжает мост, за которым сосны, сосны. Пинии.
- Лидуха во-он там живет, - показывает Надя в окно: среди вековых сосен
высокие зеленые и голубые дачи с башенками. - К ней после пляжа пойдем,
вечером. Предки ее на гастроли валят. Пойдешь?
- Можно, - мычит Рябец.
Выходят. Рябец держит сумку впереди, а как?
Идут по дороге мимо высоченного забора.
- Кто здесь живет? Артисты? - спрашивает он.
- Шишки, дипломаты, артисты тоже. У остановки видел за забором японский
флаг?
- Везет... В Москве, а как бы в лесу.
Надя пожимает плечами.
Сворачивают с дороги, идут среди сосен по песку. Надя снимает туфли на
высокой платформе. Рябец чуть отстал. Ну, решайся! - стучится в мозгу,
- она же нарочно в лес, нарочно!
Кладет руку на Надино плечо. Девушка останавливается.
- Ты что? - руку убирает.
- Я... я, - роняет сумку, пытается обнять ее, тычется лицом.
Она уворачивается:
- Ну-ну, балуй - здесь же людей полно!
- Я...я... просто... тебя... поцеловать...
- Поцеловать! - она быстро чмокает его в губы. - Вот! Потом, потом...
- Когда? - хрипит Рябец.
- Ну, вечером, кто ж днем - и целоваться?!
* * *
Месропов уже на пляже в компании. И Болтянский тут. Остальные
незнакомые, чернявые, гортанные, соплеменники Месропова. Появление
Рябца и Буратаевой встречают радостно - наливают армянский коньяк.
Рябец не пьет - нюхает, отставляет. Во-первых, он еще никогда не
пробовал ничего крепче новогоднего шампанского, во-вторых, он злится:
Надя - единственная девушка в компании.
Идет купаться. Плавает долго, следит за ней. А та уж и повизгивает и
похохатывает, и ее уже лапают. И Месропов, и друзья его. "Суки,
суки!.." - кричит он, погружая голову в воду - чтобы и не слышно, и в
полный голос.
Играют в мяч, прыгают, бесятся. Рябец сидит на топчане и злится. Потом
бредут на Круг в пивную. Месропов с Буратаевой - сзади в обнимку. Рябец
озирается. Он не подходит к Буратине ни в пивной, ни позже, когда
заявились, наконец, на дачу к Лидухе - маленькой брюнетке с цепкими
глазками. Она встречает гостей на крыльце. Месропов целует ей руку, и в
этот момент Буратина вспоминает о Рябце, озирается. Он стоит в калитке.
- Идешь что ли?
- Нет, я домой.
* * *
Он убьет ее, эту сучку, убьет.
Рябец сжимает сухие кулачки.
Смех из окна на втором этаже:
Ха-ха-ха-ха! Хо-хо-хо-хо! Хи-хи-хи-хи!
Этот последний - ее.
Рябец щупает шершавую стену - сухая, будет гореть так, что мама не
горюй!
Первое - бензин. Не проблема. Машина у ворот.
Второе - шланг. Где шланг? Вот - дохлым ужом на сухой траве. Все сухо,
сухо. И смех, смех. Пьяный, наглый. И музыка. И кто-то блюет.
Третье - бутылка. Вот банка под крыльцом. Даже две. По литру. Отлично!
Зубами, зубами Рябец отгрызает кусок - примерно с метр - черной плоти
шланга-ужа. Вот-вот, вот-вот. Отвинчивает крышку бензобака. Теперь
соси, ха-ха, соси! Едкий пар, еще, еще... До рвоты. Еще, ну, еще...
Эро-тич-но! - сказал бы Болтянский. Его, Болтянского, смеха не слыхать,
небось, дрочит в коридоре... Ему тоже ни хера не достанется!
Полилось! Сперва в глотку, потом в банку. Литр. Льем. Еще литр. Все,
больше не сосется. И хватит. Сушь такая, без бензина
займется.
Теперь ждать. Накрыть банки да хоть полотенцем, чтоб не испарялось, и
ждать-ждать-ждать.
Рябец отходит от дачи, садится спиной к липкому сосновому стволу.
Ждать. Хорошо собаки нет. Нет собаки.
Рука Рябца ужом в штаны... Нет, нельзя. Кончу - расслаблюсь. Нельзя -
три года только о ней и думал. Руки прочь!
В окне ее короткая стрижка. Курит, пепел стряхивает как раз туда, где
он только что стоял. Оп! - окурок летит пьяной звездочкой, опускается
возле его невидимых ног. Тлеет. А мог загореться. Мог. Отлично. Ушла.
Месропов вчера сказал, что ее подругу хочет. А ее - кто? Эти? Чучмеки?
Сука.
Не ревность - справедливость! Как в "Декамероне": она его во дворе
зимой мурыжит, а сама с другим тешится. Италия. А еще про то, как жена
мужа заставила в бочку залезть, чтобы изнутри проконопатить. Сама
стоит, указывает, что да где... а сзади, хе! к ней другой пристроился.
Веселые люди! А этот, что глухонемым притворился в женском монастыре?
Вот жизнь!
Ха-ха-ха-ха! Хо-хо-хо-хо! Хи-хи-хи-хи!
* * *
Когда ж угомонятся? То коньяк, то пиво, то коньяк! Как домой? Как?
Троллейбусы перестанут. Метро перестанет. Матери позвоню. Или не надо?
Вот блин! Улика! Мать спросят: когда ваш сын домой пришел? А она?
Тьфу - опять полез! Не надо, домой вернешься - дрочи, сколько влезет.
Сколько вылезет, ха-ха.
Тсс... Свет погасили. Легли? И Болт? С кем? "Тихо сам с
собою..." Атас! Дверь на террасе скрипнула. Рябец вжался в ствол,
подобрал ноги. Тень от соседнего куста скрыла его. Шорох. Лидуха
грудастая. Месропов. Остановились, шепчутся.
- Я без них не стану. Куда она их бросила, дура?
- Да сюда куда-то. Темно, где искать? Я осторожно, обещаю.
- Вы обещаете, а нам расхлебывать!
- Давай без них, клянусь - я осторожно!
- Ага, а потом ты с Надькой?!
- Что ты, в самом деле! Я ж ее не звал, ты звала. А мы с тобой завтра
хоть весь день, а? Родители когда приедут?
И лапает ее, чучмек, лапает Лидуху. На землю валит, юбку задирает,
декамерон проклятый!
Рябец таращится на соитие силуэтов. Хочется выйти и... ногами, ногами!
Но терпи, жди и терпи. Лидуха слабо вскрикнула. А Рябец замечает - из
окна выглядывает она. Профиль ее милый, глаза ее степные. Значит, видит
все и не уходит! Почему, почему? Месропыч отвалился. Как клещ. Надя
прянула, исчезла.
Встали, отряхнулись, ушли. Дверь закрыли. На ключ. Очень хорошо. Ждать.
Рябец, пригнувшись, перемещается к дому, на то место, где недавно была
парочка. В траве что-то слабо белеется, - презервативы! Две пачки,
перехваченные резинкой. Кто бросил, зачем?..
* *
*
Рябец стоит за пилоном моста, смотрит. Едва различимые еще минуту назад
сполохи уже зримы, уже яростны. Пинии пылают, пинии! Как свечи!
Стоит и смотрит. Еще минут десять - и зарево. Вот мимо - две пожарные
машины. И "скорая". Поздно.
Спускается к улице Новикова-Прибоя, отыскивает телефонную будку,
опускает двухкопеечную монету, крутит диск. Мать отвечает не сразу,
мычит нечленораздельно, Рябец облегченно - пьяна. Если пьяна, значит,
отец и подавно, уже спит. Можно не торопиться.
Один на весь монастырь - это ж какая сила! Как у Месропыча. У Зинаиды
Леонидовны, литераторши, Болтянский спросил как-то про "Декамерон":
читала она или нет? Эта дура очкастая разоралась: дескать, кто вам
разрешил такие книги читать?! А Болтянский ей: так там же написано в
предисловии, что это классика! Классика?! - заорала Лимонадиха, - я
тебе, Болтянский, такую классику задам! Небось, только об этом и
думаешь! И невдомек тебе, что "Декамерон" - это прежде всего
анти-клери-кальная книга. Она против церкви, а вовсе не про это! К
доске, Болтянский, расскажи мне про образы коммунистов в романах
Михаила Александровича Шолохова "Тихий Дон" и "Поднятая целина"?
Единицу сразу ставить? Родителей ко мне завтра! А что и Бальзака тоже
нельзя читать, Зинаида Леонидовна? - это уже Трегубов, отличник. На
него Лимонадиха орать не посмеет. Что Бальзака? - прикинулась. "Озорные
рассказы", Зинаида Леонидовна! Она густо краснеет, снимает очки,
надевает очки: сегодня мы продолжим изучение романа "Поднятая целина".
Откройте тетради...
Рябец забрался в подъезд, забивается под лестницу. Часа три можно
здесь, в углу, а там троллейбусы пойдут. И метро.
Не рыдай, людей разбудишь, не
рыдай.
III.
Богбандит
Пенсионер Николай Петрович Пурин стоит перед беременной девкой в
переходе с "Театральной" на "Площадь Революции". Та держит обеими
руками (точно боится, что вихрь подземный вырвет-унесет) бумажку:
"Помогите на жизнь".
- А ноги когда расставляла да мандой торговала, о жизни думала? -
строго вопрошает Пурин.
- Что?
Гулко, девка в толк не возьмет, чего привязался этот высокий старик с
глазами серыми, злыми, под глазами мешки.
- Ноги когда расставляла, о жизни думала? - повторяет тот громче. И
прибавляет: Мандюшка!
- Чего вы ругаетесь? - спрашивает девка, но как-то машинально, лицо
опухшее то ли с горя, то ли с пьянства.
- А того: нах тебе такая жизнь? Родишь - и чего? Аборт нужно
было делать, а-борт. И об борт ее швыряет! - Пенсионер вдруг поет
неожиданно приятным баритоном. - Пошла б удавилась, и то лучше. И тебе,
и помету твоему вонючему...
- Слышь, папаша, иди-ка ты отсюдова, - все так же бесстрастно девка.
Она лишь немного сердится, и то, кажется, не на нравоучения, просто
старик мешает.
- Мандюшка! - Николай Петрович поворачивается, чтобы идти, но вдруг
передумывает, говорит:
- Кто же на тебя такую позарился, вот что мне скажи. Ноги кривые, ляжки
толстые, шеи нет, рожа поперек себя шире... Разве по пьяни...
- Да иди ты... - вяло девка.
А он уж почти ласково:
- Может с толстыми ляжками тайно придет она и ты будешь читать свою
чахлую дохлую лирику...Э-эх, ты, манда с ушами! Ведь и взрослая вроде,
а того понять не хочешь, что уж коли родишь, так по любому сдохнет твой
помет. Это лишь вопрос времени. Ежели ты, конечно, не богородица!
И Николай Петрович опять поет, на сей раз частушку, заполняя баритоном
своды тоннеля:
- Ох, да не целуй меня взасос,
Ох, да я не богородица!
Ох, да от меня Иисус Христос
Да все равно не рОдится!
Опа, опа!
Срослись с мандою жопа,
Да этого не может быть -
Промежуток должен быть!
И уходит, уходит, руки в широкие карманы перелицованного пальто, через
плечо сумка.
"Вот кстати, два зимних модных аксессуара: пАховик и мандО!
Хе-хе-хе-хе..." - бормочет громко, в переходе факт бормотания очень
слышен, но содержания - не разобрать.
Пока Николай Петрович спускается на свою любимую станцию с
бронзовыми истуканами в нишах, коротко поясню, что классическую строку
он процитировал не из случайного каприза, - он вообще-то знает изрядно
и стихов, и прозы - даром что ли больше тридцати лет проработал
учителем словесности - и большой любитель щегольнуть цитаткой.
Полузапретную в известные годы поэзию добывал, где мог, и переписывал,
переписывал средневеково в амбарные книги - он и по сей день
читает не типографские томы, а эти сероватые страницы, испещренные
бисерным, невероятно четким почерком: стихи, стихи, стихи и даже в
прозе - от руки исполненные "Москву-Петушки" и отчего-то "Машеньку"
Набокова.
Пурин на платформе. Спешившая впереди девушка в модных штанах вдруг
вильнула влево, привычно погладила намоленную коленку статуи рабочего в
кепке и с винтовкой в бронзовой хватке и дальше. "Ишь ты, манда
позорная! В бога они верят, ха! Любому тельцу рады поклоняться! А
штаны-то, штаны! Точно обосралАся!..". И вдогонку:
- Эй, эй, засра-анка!
Но та уж далеко, а вот прохожие заоборачивались: кто недоуменно, кто
весело - дедуля спятил. Поток уносит любопытных, Николай Петрович
останавливается. Он стоит как раз против парашютистки - по всему только
что приземлившейся, подбирающей с земли стропы. "А вот ее за сиську
никто не погладит! Э-эх, люди!" Подходит поезд, пенсионер грузится,
уезжает.
Изучает схему метро - куда податься. Конечный пункт вояжа с некоторых
пор всегда один - "Третьяковская", но это потом, потом. А пока Николай
Петрович выходит на "Арбатской", поднимается на эскалаторе и в буфете
покупает стаканчик кофе с молоком. Это у него ритуал - пить кофе,
разглядывая роящихся людей. К соседнему столику подходят две глухонемые
тетки, они ничего не пьют, не едят, а просто притормозили потолковать.
Обе некрасивые, в нелепых шерстяных шапках невероятных раскрасок. Пурин
внимательно следит за пряжей их разговора, улыбается: "Ишь, парки
страшенные! Плетут, плетут, потом - бац! и нет человеков!" Тетки
замечают его взгляд, оборачиваются, руки их замирают.
- Чего уставились, убогие? На башне спорили химеры, которая из них
урод? Хе-хе-хе! А вот угадайте по губам! Что, слабо? Сик-кушки!
Тетки укоризненно качают головами, дружно отворачиваются, взмахивают
руками, уходят. Пенсионер допивает кофе, спускается на платформу
"Библиотеки".
Есть у него одно налюбленное местечко - переход с "Лубянки" на
"Кузнецкий мост". Там, возможно, стоит сейчас гордость его, так
сказать, коллекции - старик, с виду ровесник Николая Петровича со
звонкой табличкой на груди: "Умер единственный сын. Нет денег
похоронить. Помогите!"
Впервые Пурин приметил его в вестибюле на "Пушкинской" лет тому шесть
или семь, когда еще не практиковал свои вояжи. Тогда, с непривычки
подивившись про себя скорбному обстоятельству из жизни коллеги
пенсионера, подумал: "А сын-то небось в морге лежит, не дома ж!
Интересно, сколько его по закону будут держать? Куда потом снесут? В
яму общую? Этаким Моцартом?"
И надо же - месяца через два, но уже в переходе на "Кузнецком мосту",
Николай Петрович вновь увидал знакомого старика с той же табличкой.
"Оп-паньки!" - остановился, долго недобрым взглядом буравил сверстника.
Наконец, тот либо устыдился, либо надоело - поковылял к эскалатору,
уехал первым же поездом.
Позже Николай Петрович встречал убитого горем отца то на
"Китай-городе", то на "Пушкинской", то на "Баррикадной", но чаще на
"Кузнецком". По всему старик жил где-то у этой линии и не слишком
разнообразил географию нищевания.
Собственно с этого старика и начались вояжи Николая Петровича. Как-то
раз не удержался, подошел к попрошайке вплотную, и ехидно: "А что,
сынок твой разве не разложился еще, так сказать, до первооснов?"
- Тебя не спросил! - неожиданно резво ответил тот, щеря желтые клыки.
Пурин смутился, он не ждал отпора, он ждал смущения, раскаяния, слез
умиления. Не найдясь, чем еще ущемить нищего, отошел.
С годами Николай Петрович подробно изучил завсегдатаев подземного мира.
Запросто мог отличить залетную молдаванку с грудным младенцем, просящую
по старинке на прокорм - глазки у нее бегали еще неуверенно, не
привыкла знать еще к московской публике - от старожила, с достоинством
справляющего свои нищие надобности. Отыскать же старика, все хоронящего
и все не могущего похоронить своего сына Николай Петрович считал особой
удачей. Встречи их случались в разных местах, всегда неожиданно, и
задавал пенсионер один и тот же вопрос:
- Ну-с, мил человек, на какой стадии разложения наш сыночек?
Скелетизирован, или же мы его в прохладе, в подполе храним? То бишь -
мумифицирован...
Безутешный отец в полемику не вступал, молча прятал свою афишку, летом
- за пазуху, в иные сезоны - под полу плаща или пальто (вполне
приличных, впрочем, он вообще одевался прилично - тем самым располагая
к себе прохожую публику: не бомж какой-то, но человек с бедой, с кем не
случается!..) и ковылял прочь.
Однако на сей раз в переходе никого. Николай Петрович припоминает,
когда в последний раз встречал убогого. Выходит, что давно, кажется,
еще в сентябре. "А может и помер. И лежат они теперь вдвоем, этак
по-семейному, один скелетом, другой подгнивает разложенцем... Э-эх, что
наша жизнь?! Игра!"
И отправляется на "Третьяковскую".
Сюда с некоторых пор он приезжает регулярно. Здесь ему раздолье. Здесь
он богохульствует. Здесь ахматовская церковь, и, поднимаясь по
эскалатору, Николай Петрович неизменно шепчет про себя одно и то же:
"Один идет прямым путем, другой идет по кругу и ждет возврата в отчий
дом, ждет прежнюю подругу. А я иду - за мной беда, не прямо и не косо,
а в никуда и в никогда, как поезда с откоса..."
На Ордынке, на углу у здания банка, что напротив церкви, стоит мужичок
виду татарского, скуласт, пухлоглаз. Завел на цоколе под окном
песнопения, у кривых ног разместил пожитки. Тулупчик расстегнут, на
груди - большой белый крест из бумаги, на овечьем лацкане записка
"Подайте православному страннику!"
- Стран-ник, - нарочито по слогам читает Николай Петрович вплотную. -
Хе! ...один бранил меня, другой моей супруге советы подавал, иной жалел
о друге, кто поносил меня, кто на смех подымал, кто силой воротить
соседям предлагал; иные уж за мной гнались; но я тем боле спешил
перебежать городовое поле, дабы скорей узреть - оставя те места,
спасенья верный путь и тесные врата...
Мужичок слушает внимательно, рукой же аккуратно, дабы не спугнуть
чужого вдохновения, двигает по оконному откосу коробченку за подаянием.
От пенсионера, впрочем, сей жест не укрылся:
- Не шурши, убогий! Всю поэзию попоганил! Откуда идешь-то? Из Вологды в
Керчь, или наоборот?
- Зачем в Керчь? С Оки иду, из Мурома, - недоуменно мужичок.
- От Петра с Февронией?
- От них, от благодетелей, - сладко улыбается просящий, так что глаза и
вовсе исчезают.
- Утром проснувшись, обнаружили люди, что раздельные гробы князя с
княгиней пусты, святые же тела их лежали в общей могиле у храма
Богородицы... - с удовольствием как бы припоминает пенсионер. -
Помыслить такое невозможно, убогий - какая в них сексуальная мощь была,
в этих усопших!
- Какая? - с недоумевающей машинальностью мужичок.
- А такая: оне и костями умудряются совокупиться, а попросту -
поебстись!
- Ай-ай-ай! - вдруг взвизгнул мужичок, глазки вновь сузились донельзя,
но уже зло, зло, побелели. - Ай-ай-ай, бес, бес!
И слюной брызжет.
Николай Петрович поспешно ретируется, семенит по переходу к самому
храму. Озирается, но странник уж на него не смотрит, принимает
милостыню от какой-то в платочке. И, слава богу.
У свечной лавки бомжик клянчит без креста и затей: "Мне денег не надо,
я покушать прошу, а не денег!"
Николай Петрович ухмыляется, снимает перчатку и несграбными ручищами с
желтыми ногтями чудовищных - в полпальца - размеров достает из
внутреннего кармана спеленатые рекламной газеткой бутерброды с сыром
(берет из дома в свои экспедиции), отделяет один, отламывает от него
половину, протягивает:
- Ешь.
Тот принимает недоверчиво, и, не снимая грязной перчатки, - тут же
жевать: крошки на ворот небесно-голубого некогда свитера.
- Любишь хлебушек-то? А если с маслицем да с сырком? А? Еще?
- Спасибо, вкусно очень - хрипит бомж и тянется за добавкой.
- Ишь ты! - Николай Петрович отводит руку с бутербродом за спину. - А
может, ты и мяса хочешь? Или жирное не ешь? Холестерина избегаешь?
- Мясо вкусно, - сипит бомж, губы его растягиваются в улыбке, обнажая
отсутствие всяческих резцов.
- Так чего же ты стоишь? - выдержав театральную паузу, продолжает
Николай Петрович, - Ступай, я же тебя не бью!
При звуке этих классических слов, бомжик точно сглатывает улыбку,
покачиваясь, собирает с сугроба драные пакеты с барахлом, послушно
ковыляет прочь вдоль ограды.
- Мяса ему подавай! Пидарас... вонючий!
Замечу, что последнее выражение - наилюбимейшее у Николай Петровича.
Причем, первое слово никогда не остается у него в одиночестве: старик
выдерживает паузу и прибавляет неизменное - вонючий! Всегда.
- А чего у боженьки не спросишь? - Николай Петрович не отстает от
убогого, идет рядом, бубнит. - Не дает что ли? А то бросил бы тебе с
небес плова небесного котелок, сарделек горних, а? Дай же ты всем
понемногу, дескать, ну и не забудь про меня... Хе-хе-хе! Окуд-жаба ты
моя смрадная!
Бомж влачится молча, хлопает гноящимися глазами. По всему видно -
единственное его желание - опохмелиться. Пусть даже выслушав перед тем
ругань и издевки этого, невесть откуда чуть ли не всякий божий день
возникающего, старика в длинном драповом пальто.
- Потому и не дает, что никакой он не бог, а есть сущий бандит. Он с
небес на нас развлекается. Ему смешно, как ты под забором от холода
кочуришься, а я последние крохи от пенсии на черный хлеб собираю...
Это Пурин привирает для пафоса - никаких последних крох на черный хлеб
он не собирает, он вполне себе обеспеченный старик, живущий на ренту с
одной из своих квартир (у него их две), которую сдает семье врачей -
причем половину берет деньгами, а другую - регулярным медицинским
обследованием и лекарствами. А богохульствует оттого, что бог
наиподлейшим образом увел у него у него жену.
Между тем, пенсионер замечает, что в профиль бомж поразительно похож на
Параджанова - просто копия! И тогда он говорит:
- Ну-ка стой, стой!
Тот послушно останавливается, опускает пакеты на землю.
- Ты вот убогий-убогий, а сам того не знаешь, что сидишь на златом
мешке!
Бомжик озирается по сторонам, смотрит под ноги, назад, но мешка со
златом не обнаруживает.
- Да не туда глядишь, не туда, - смеется Николай Петрович. - Ты в
зеркало гляди, тебе на Мосфильм надо бежать срочно, пока совсем не
издох, на главную роль проситься - ты на Параджанова похож, как
брат-близнец!
Бомжик тускнеет лицом - он не знает, кто Параджанов, и почему ему на
Мосфильм.
- Да и хер с тобой! Заболтался я, к храму, к храму! Вот ты мне скажи,
убогий, отчего ты не на паперти стоишь? Не пускают? Правильно - там
своя мафия нищая! А тебе судьба на задах торчать... Эх, не
по-христиански, не по-христиански...
- Мне денег не надо, - вдруг вспоминает бомж, - я кушать хочу...
- Это мы уже слышали, - Николай Петрович идет дальше, к паперти, к
паперти.
Дорогой он напевает "Тореадора". И неспроста: в юности Николай Петрович
грезил оперной карьерой, был у него немаленький баритон. В школьном
хоре солировал, пел звонко, громко, всем на зависть. Как голос сломался
и вновь оформился - посулил ему школьный хормейстер звездную карьеру,
посулил щедро, так что Николаша поверил безусловно. Решил поступать в
училище, но буквально накануне прослушивания - простыл, осип, и на
экзамен не пошел. Отец его - Петр Николаевич, инженер, человек нрава
крутого, рассудил просто: "петь - не по-мужски, поют одни пидарасы,
заканчивай школу" (заметим в скобках, что слова эти в устах Пурина-отца
звучали по меньшей мере нелогично: сам он оперу очень даже уважал, был
заядлым "козловистом" и дома постоянно напевал из любимых "Онегина" да
"Вертера": "О, не буди меня, а-а-а-а!.. дыхание весны-ы...").
Разумеется, сын школу закончил. Но памятуя о посулах хормейстера, решил
тайно попытать счастья еще. На сей раз горло берег как сокровище, воды
холодной не пил, мороженого не ел, на сквозняках не ошивался, даже на
пляж на Ленинские горы с приятелями купаться не ездил - хотя лето
стояло знойное. И надо же, как назло - за два дня до экзамена слег с
температурой - банальная ангина! Хотя, повторим, жара в те дни в Москве
была несусветная.
Вместо музыки вышел у Николаши журфак университета: дядя, Тимофей
Николаевич, недавний фронтовой корреспондент, а следом - партийный
журналист - составил высокую
протекцию.
Николай Петрович поет из Бизе по-французски: "Торе-адор ан га-а-арде,
торе-адор, торе-адор!" И ровно с последними тактами сноровисто восходит
на паперть.
На ней три нищенки. Завидев пенсионера, озираются, точно ища пути к
отступлению. Заметь они его раньше - схоронились бы в храме, но Николай
Петрович уж тут как тут. Заприметив в руках одной - долговязой,
нелепой, в стоптанных до сути сапогах да в грязно-красном платке на
нечесаных волосах - порожний стаканчик из Макдоналдса, Пурин криво
ухмыляется:
- Ты что ж, манда верстовая, америки у храма проповедуешь?! Не могла
тару поотечественнее сыскать?
Та держит глаза долу, мешкает, а он смачно плюет прямо в мерзлую мелочь.
- Господь ужо тебя покарает, покарает! - каркает, выдвигаясь перед
подругой, другая - скукоженная старушенция, карлица почти.
- Ой, не смеши, вша убогая! Ой, помру со смеху!..
- А вот я старосту, старосту!.. - грозится та мизерным перстом.
При этом пятится, выдавливая спиной понурую подругу с крыльца в
церковные двери. И крестится истово, и все окрест крестит - словно
гоняя бесов, слетевшихся к старику в поисках безбожной поживы:
- Ишь, бандит какой! Бес, бес! Свят-свят-свят!
- Это я - бандит? Ха! Это бог ваш - наипервейший бандит и бес! - бубнит
Николай Петрович, но все ж негромко, осторожно.
Он знает, богохульное счастье его скоротечно: сейчас карлица шепнет
сторожам о его явлении, и выведут Николай Петровича под белы рученьки
вон со двора. Бить не станут - место святое. Он еще видит рыбью спину
долговязой - и та исчезает за дверью. Остается лишь третья,
расслабленная, сидит на стылом камне, раскорячив немощные ноги.
- И ты тут, агентство недвижимости! - пенсионер мрачно плюет с паперти
в снег.
Стоит в секундной нерешительности, извлекает из сумки пакет, открывает,
задумчиво смотрит внутрь, сворачивает, наклоняется вроде оставить пакет
на паперти, но нет - не оставляет, кладет обратно. Вздыхает. Спускается
прочь.
К тому же хочется и по-маленькому. Николай Петрович хоть и старик, но
мочится не часто: пару десятков лет уже как грызет он тыквенные семечки
- с простатой полный у него мужской порядок. По утрам бывает,
разглядывает себя голого в большом зеркале в прихожей,
восклицает: "Стоит родной, стоит покуда!"
Ему б в бесплатные удобства Макдональдса, но там, на пути, на углу
банка торчит помехой злой татарин-странник. И Пурин - во дворы, во
дворы, и между сугробами, не таясь, дырявит вялой мочой серый снег.
Скоро сумерки, хотя и четырех еще нет. Пора возвращаться - обедать,
листать амбарные книги.
Карьера журналиста у молодого Николаши не задалась с самого начала.
Когда он вышел из университета, все тот же дядя пристроил его в
ведомственную строительную газету, из которой при известном рвении и
везении путь в большую журналистику мог стать легким. Но незадача - как
раз о ту пору шла по стране так называемая оттепель, и юный борзописец
воспринял ситуацию слишком доверчиво, что, в общем-то, простительно для
его возраста. Получив первое задание - написать очеркушечку про молодую
женщину - героиню производства, положившую в минувшем году то ли сто,
то ли двести тысяч кирпичей в кладку коммунистического фундамента,
Николаша ничтоже сумняшеся заключил: ей бы детей рожать, а не кирпичи
класть, ибо сказано древними: богу богово, а бабе бабье. Чем больше она
кирпичей положит, тем меньше у нее шансов родить здорового члена нового
общества. Редактор покрутил пальцем у виска и отправил романтика делать
колонку строительных новостей: провели, заложили, сдали в
эксплуатацию... Николаша полгода промучился, кладя словесные кирпичи, а
как выдался случай перешел в другую газетку, рангом пониже, да что там
- в многотиражку обувной фабрики. Передовиков хватало и здесь, но тема
была, как ему казалось, более человеческая - ботинки-полуботинки, боты,
сапоги, кожа, кожзаменитель, колодки, подметки, шнурки, в конце концов.
Зато на новом месте раскрылся, наконец, в полной мере и вокальный дар
Николаши: стал он попевать в местной самодеятельности. И имел
локальный, пусть на смотрах обувщиков, но все же успех. Здесь же
произошло, пожалуй, наиважнейшее во всей его жизни событие - знакомство
с Юлием Арнольдовичем, записным меломаном, ходившим в Москве буквально
на все, что имело хоть какое-то отношение к оперному искусству а то и
просто к пению: и в Большой, и в музыкальный Станиславского, и в
Оперетту, Консерваторию, зал Чайковского, Гнесинку, не исключая и
всевозможные дома культуры.
Юлий Арнольдович после концерта аплодировал у авансцены исключительно
Николаше, руки тянул, слезу смахивал, так и познакомились.
Юлий Арнольдович - вот ирония судьбы - был начисто лишен музыкального
слуха, и ни единожды, даже и про себя не спел ни куплета, но чужое
пение, особенно мужское, особенно баритональное - нередко доводило его
до слез экстатических, до навзрыд!
Большую комнату в коммуналке на Волхонке он делил со своей дочерью
Василиной, по-ласковому - Басей. Жена умерла в войну в эвакуации, сам
же на фронт не попал по причинам, во-первых, немецкого наполовину
происхождения, во-вторых, по чахотке, которую вроде бы и удалось
остановить, но от которой, тем не менее (забегу вперед), он и умер.
Две стены его комнаты уставлены были сосновыми стеллажами, а те -
биографиями и монографиями, папками с газетными вырезками, посвященными
оперным певцам, портретами оных - иные с автографами. Были там и
Пирогов, сладкая парочка - Козловский с Лемешевым, и даже Шаляпин, но
красное место в капище занимали классические баритоны: Лисициан,
Мазурок, Норцов и примкнувший к ним молодой кумир Магомаев...
Имелись и пластинки в этой музыкальной коллекции, но мало - Юлий
Арнольдович пение с винила не жаловал, умел наслаждаться им только
вживую. Для Гоби, Руффо да Тадеи он бы и рад сделать исключение, тем
паче, что пластинки великанов бельканто у него были, были, да вот
только слушать их было не на чем, ибо во всем остальном в комнате
царила банальная советская нищета: круглый стол посередине без
скатерти, без клеенки, даже без графина, но исцарапанный, испятнанный,
исщербленный; две железные панцирные кровати - одна отца, другая, в
дальнем углу у окна за блеклой ситцевой ширмочкой - дочернина; сбоку у
двустворчатой двери вместо гардероба - вбитые в стену гвозди.
Зато знала Юлия Арнольдовича вся музыкальная Москва. Кассирши оставляли
ему билетики на галерку, публика шушукалась, когда он восходил по
длинной консерваторской лестнице, а сами певцы, казалось, перед первыми
тактами какого-нибудь романса, искали в зале его долговязую фигуру с
одухотворенными руками, искали точно некий талисман, и, найдя -
вдохновлялись, и голос их тек вольно, мощно!
Тогда и Юлий Арнольдович впадал в экстаз, ерзал, подтаптывал ножками,
подтактывал худыми пальчиками, слезы проступали на его голубых до одури
глазках, и уж не помнил он себя. Себя он вспоминал после, когда выйдя с
концерта в ближайшей подворотне извлекал из внутреннего кармана пиджака
полбутылки дешевейшего портвейна - "Солнцедара" или "Агдама", вынимал
бумажную затычку и отхлебывал из горлышка.
Николай Петрович достает из сумки гигиенические салфетки, тщательно
протирает ладони и пальцы, откусывает остатки бутерброда, жует на ходу.
Вот он снова в метро. По вагону идет человек, как-то нарочито
припадающий на левую ногу, восклицает:
- Хирург сказал - резать ногу! Помогайте, пожалуйста, помогайте!
Застывает, протянув руку, ждет, как дадут, не отходит, настойчив.
Николай Петровича, как человека имеющего отношение к словесности,
привлекает в слогане убогого несовершенный вид глагола. Это
грамматическое обстоятельство придает обращению какую-то особенную
наглость: помощь требовалась не единовременная, а регулярная, этаким
пенсионом - только успевай совать руку в карман и давать, давать...
Когда инвалид достигает Николай Петровича (поезд тормозил на станции),
тот клонится к его уху и язвит:
- Ногу отрежут - так и хорошо, хорошо! Счастья своего не знаешь! Хорошо
тому живется, у кого одна нога - потому что хуй не трется и не нужно
сапога!
Инвалид дико смотрит на пенсионера, поезд останавливается, двери
раздаются и он выскакивает вон с неожиданной прытью.
"Смутил, смутил наглеца-мошенника!" - ликует пенсионер.
С некоторых пор Николай Петрович повадился объезжать подземный мир в
поисках жертв почти ежедневно. Бывало, проснется утром в состоянии
разбитом - болит голова или суставы, или все разом - старость ("Если в
нашем возрасте ты проснулся и ничего у тебя не болит - значит ты умер"
- любит повторять пенсионер), лежит долго, скорбно вперившись в низкий
потолок. Наконец, берет над собой усилие и принимается разминать члены,
массировать ноги, руки, живот. Встает, принимает лекарства, пьет
по-английски чай с молоком да с бутербродом, правда, чай с годами
становится все жиже, а бутерброд площе, но это не по скупости, а в
целях сугубо диетических - сокращения танинов-холестеринов. Слушает
новости, смотрит в окно. Потом не спеша одевается, кладет в карман
опять же бутерброд или яблоко, и к метро. Эти десять-пятнадцать минут
прогулки действуют благотворно. По пути не пропускает он ни единого
прохожего, ни эллина, ни иудея, ни мужеского, ни женского полу, ни
старика, ни старуху, ни мать с младенцем, ни девушку, ни юношу, чтобы
не пробормотать с разной степенью громкости (это зависит от
моментально оцениваемой способности адресата к ответу и отпору)
какую-нибудь реплику: "Давай, давай, старая манда, шевели корягой, пока
не сдохла!" (старухе, переходящей улицу), "Ишь, намандилась, точно
праздник какой! Ах, ты сучка - на лекцию она бежит, а заодно и
поебстись!" (студентке, спешащей в институт), "Убери свой помет с
дороги! Нарожают тут мяса пушечного, пройти негде!" (мамаше, ведущей
ребенка за руку).
Подняв, таким образом, состояние духа, Пурин спускается в уже
комфортное дневное метро и начинает подземный цикл вояжа.
Знакомство с Юлием Арнольдовичем круто переменило участь молодого
репортера. Нет, сказки не случилось: не запел Пурин
соловьем-самородком, не был приглашен ни в Большой, ни в Скалу - хотя
бы и потому, что к началу знакомства Николаша уже несколько лет активно
курил, причем наидешевый из табаков - "Беломорканал". Однако стал
желанным гостем спивающегося меломана в помещении на Волхонке. Садился
за щербленный стол, хозяин напротив, и начинался монолог, прерываемый
разве что жадным прихлебом портвейна из липкого стакана (гость
деликатно от алкоголя отказывался).
Юлий Арнольдович читал, читал из книг, любимейшей из которых была
"Парабола" Руффо. Потом рассказывал: о концертах, о певцах, о встречах,
о верхних "до" да нижних "фа".
Голос его скользил, иногда спотыкаясь, почти падая, переходя в сип (это
Юлий Арнольдович начинал задыхаться), и вновь скользил: чахотка успела
унести из груди одно легкое.
Завершался вечер неизменно чтением стихов, которые Николаша к стыду
своему слышал всякий раз впервые, хотя и знал имена авторов, и своих
Мандельштама, Цветаеву, Есенина, Ахматову, и заграничных Рильке да
Бодлера с Аполлинером... Оказались увлечения Юлия Арнольдовича и шире,
и глубже баритональных. Оказались на полках его не все лишь слащеватые
мемуары, а и потаенные томики стихов. Оказалось, знавал Юлий
Арнольдович в эвакуации и саму Ахматову, даже оказывал ей кой-какие
бытовые услуги, за что был вознагражден автографом на куцем сборнике
"Из шести книг": "Милому-милому Ю.А. от А.А. Ташкент, февраль 1943 г."
Иногда юный гость приносил с собой чемоданчик, который оборачивался
скрипучим проигрывателем "Юность". И слушали, слушали, слушали
что-нибудь из коллекции Юлия Арнольдовича. Или шли в концерт, причем
почтенный полунемец легко позволял приятелю платить за себя в кассах.
Бася в мужских посиделках участия не брала вовсе: она училась в
медицинском на вечернем, работала медсестрой в районной больнице, домой
приходила ночевать, да и то - когда не дежурила в отделении. За все
время (меньше трех, но каких! лет) знакомства Юлия Арнольдовича и
Николаши, молодой человек видел ее не больше десятка раз, или второпях
на лекцию, или терпеливо зевающую за ширмочкой в ожидании, когда гость
уйдет, и она сможет раздеться и лечь. О ней Николаша сумел бы сказать
лишь, что худощава в отца, что на узком лице всегда стынет вежливая,
хотя и потусторонняя полуулыбка.
Всего-то три без малого года этой странной музыкально-поэтической
дружбы, но.
Как-то Юлий Арнольдович с пьяным упоением принялся агитировать: "Ах,
оставьте вы, Николаус, эту никчемную борзопись - читатели газет,
глотатели пустот - ах, идите, мейн либер Фройнд, сейте разумное,
доброе, чело-вечное... Дети, дети... они спасут мир, спасут и
сохранят..."
И Николаша внял. Отправился в школу рабочей молодежи по соседству с
домом - прознал, что учителей там нехватка. В школу обычную его без
специального образования покамест не брали. Что ж: учил взрослых, сам
же одалживал у своего учителя (так почтительно про себя называл Юлия
Арнольдовича) стишки, переписывал в амбарные книги, вдумчиво,
аккуратно, а заодно заучивал. Потом поправилось: стали строить в
Строгине новый район, возвели мост, открыли школу, и взяли Николашу
туда словесником.
Не повезло в храме и не случилось на месте сынопохоронного старика,
зато были же и удачи! Перейдя на "Китай-городе", Пурин углядел впереди
- бонус! бонус! - нездешнюю, не-из-метро пожилую даму в роскошной шубке
из щипанной норки. Она нарочито уверенно рассекала подземное
пространство, но нездешность ее бросалась в глаза, бросалась! Не мог,
не мог подземный завсегдатай Николай Петрович Пурин пропустить этакое
исключение.
Нагнал и говорит. Говорит громко, чует - адвокатов себе в метро эта
дамочка не возьмет:
- Ишь ты, вырядилась! Венера в мехах! Небось лю-юбишь плеточкой-то себя
огреть, а? Мандюшка меховая! А свой-то - промеж ног - мех, что, не
греет? А? Греет небось... Или броешься там вчистую?
Дама шарахается, она все слишком хорошо услышала, тайное ее презрение
мгновенно меняется животными страхом: старик, безумный старик, а под
поезд толкнет, под поезд! ах!
Николай Петрович с юмором глядит вслед, оборачивается в последней
надежде, но нет, нигде нет любезного сердцу его ровесника. "Да и хуй бы
с ним совсем!"
Садится в поезд - домой, домой.
Удача стережет его и в этом вагоне, впрочем, Николай Петрович уже и за
удачу таковое не держит - простая закономерность, там пусто, здесь
густо, как говаривал Ломоносов: высокий старик у дверей напротив. Но
каков! Кто может сосчитать сановника доход!
Однако сперва Николай Петрович натыкается на широкую женскую задницу -
баба в шубе, в колпаке, украшенном невероятной какой-то и размером и
рисунком своим пуговицей, пришитой сбоку - перегородила проход.
- Посторонись голуба, че раком встала? Я сегодня не обслуживаю! - прямо
в пуговицу говорит он.
Женщина почти не реагирует, слова его, застревая в шубе, шерсти, коже,
жире, едва протискиваются к ее мозгу. Но вот сторонится немного, давая
толику прохода. И Николай Петрович шагает прямо к удаче.
Удача же являет собой старика в модной кожаной с мехом ушанке, с модно
связанными ушами на затылке, с торчащим из-под длинным хвостом седых
волос, в длинном же бежевом синтетическом пальто, за плечами рюкзак, в
руке палка - все эти аксессуары решительно выдают в пассажире
элегантного интеллектуала. Итак:
- Кто может сосчитать чиновника доход? Бессмертны высокопоставленные
лица! (где управляющий? Готова ли гробница?) В хозяйстве письменный я
слушаю отчет... - провозглашает Николай Петрович уже вплотную.
И безо всякого удивления, но с наслаждением слушает ответный пароль:
- Тяжелым жерновом мучнистое зерно приказано смолоть служанке
низкорослой, - священникам налог исправно будет послан, составлен
протокол на хлеб и полотно...
- Мы с тобою поедем на "А" и на Б" посмотреть, кто скорее умрет, а она
то сжимается, как воробей, то растет, как воздушный пирог. И... -
Николай Петрович делает рукой взмах-приглашение.
- ...едва успевает грозить из угла - ты как хочешь, а я не рискну! У
кого под перчаткой не хватит тепла, чтоб объехать всю курву Москву... -
заканчивает старик с хвостом.
Поезд как раз начинает тормозить, въезжая на "Кузнецкий мост".
Хвостатый делает импульс к выходу, Николай Петрович щерится:
- Виагру небось пьешь?
- Пью, - кивает хвостатый.
- Поэт?
- Прозаик.
- Оно видно, что не поэт. А вот я, прозаик, виагры не пью, у меня и так
стоит - не согнешь!
- Мои поздравления... - на ходу, уже назад кивает хвостатый и выплывает
из вагона.
- Пидарас... вонючий - умиленно сипит вслед Николай Петрович.
Опускается на свободное сиденье: домой, домой!
Напротив восседает старуха в очках, страшная, с толстыми ногами, сосет-
насасывает конфету, попутно плотоядно разглядывая обертку, и так ее, и
этак и сбоку, и вверх ногами.
- Все сосешь, манда очковая! - бормочет Николай Петрович, гипнотизируя
ту взглядом. - В молодости знать не насосалась!
Старуха, разумеется, не слышит, да и не глядит она на пенсионера - а
все на свою обертку, и сосет, сосет, сосет.
Николай Петрович вздыхает, ему хочется домой. Он даже хотел было
пересесть на другую ветку и ехать до "Сокола", оттуда ближе идти. Но
старческий консерватизм - не время менять привычки - берет свое, и он
остается сидеть.
Выходит на "Октябрьском поле", закуривает (он теперь курит немного, но
с наслаждением), вышагивает по мосту, разглядывая сквозь пелеринку
снежинок вагоны, вагоны, вагоны и рельсы внизу. Вдыхает горький запах
железнодорожного угля. Рельсы неизменно манят Николай Петровича своими
сходящимися невесть где бесконечностями. Где кончатся эти? У
Гибралтара, у парома в Марокко? Или в Таллине, у парома в Стокгольм?
Был такой - "Эстония", а потом потоп, потоп. Или же в Благовещенске у
парома на Сахалин? Или в лесном тупике под Вологдой у руин бывшего
лагеря? Где угодно, где угодно. И нигде, нигде.
С моста видит он окна своей квартирки - на шестом этаже девятиэтажки:
вон кухонька, левее - гостиная, а проще - проходная комната, в ней
телевизор, сервант, продавленный диван, тертый ковер на стене, дверь
скрипучая на балкон. Еще левее - спальня. Там они прожили с женой
Василиной ни много, ни мало, а тридцать три года. Без детей, вдвоем,
как два перста, с правой руки и с левой.
Дома его ждет еще одно развлечение, которого он сам втайне стыдится.
Телевизор. Стесняется же Николай Петрович по причинам сугубо
творческим: с телевизором, вернее, с персонажами, мелькающими на его
экране, он тоже заговаривает, комментирует, высмеивает, материт. Те-то
про него, про Николай Петровича Пурина, разумеется, ничего не ведают, о
его существовании не догадываются, его комментариев не слышат. И это
ему обидно, и клянет он себя за свою многолетнюю слабость, но всякий
раз, сготовив нехитрый ужин: пару сосисок с гречневой кашей, да кусок
черствого хлеба с заветренным сыром, да стакан чая с лимоном, причем
стакан в подстаканнике, как в поезде, отстукивающем стыки по
параллельным бесконечностям; стало быть, всякий раз, отужинав на кухне,
он переходит со стаканом в руке в проходную комнату и зажигает экран.
Разумеется, больше всего поводов к комментариям ему дарят новости.
Возникнет ли президент, принимающий чиновника в кремлевском кабинете,
Николай Петрович загогочет: "Эгей, родной, проснись, проснись, тебя
обокрали!" Возникнет ли премьер-министр на заводе, пенсионер поставит
стакан на пол, встанет, вытянется в струнку, ладонь приложит к виску и
гаркнет: "Равнение на экран! Смир-на! Ра-ды ст-раться, г-сподин
ф-льд-фебель!"
Поводы в телевизоре неисчерпаемы: и тексты песен, и реплики ведущих, и
закадровые голоса, да все что угодно! Иные фразы становятся для
пенсионера любимыми, сопровождают его годами. Как, например,
словосочетание "отойти ко господу", которое он услышал от румяного
толстомордого с бородкой ведущего новостей какого-то непервого из
каналов. Как-то, заключая свой выпуск, тот сообщил о кончине некоего,
то ли архиепископа, то ли иного важного иерея (Николай Петрович
запамятовал - кого именно): "Накануне отошел ко Господу...". Пенсионер
и посейчас помнит, как подскочил он с восторженной прытью со своего
дивана, так что стакан с подстаканником кувырнулись, рельсы кончились,
шпалов нет.
- Во дает, во дает, ублюдок мордатый! Ко Господу, ко Господу! Одесную
сел? Или ошуюю? А то напротив. Или же на задах! У бога народу много!
С тех пор Николай Петрович за каждый свой вояж по десятку, не меньше,
раз приборматывал с разной степенью внятности и громкости: "А не пора
ли тебе, родная (родной), отойти? Ко Господу".
История его женитьбы очень странная. Как-то весенним звонким вечером
приезжает Николаша на Волхонку, звонит в дверь, в отдельный звонок, над
которым бумажка: Ю.А. Бирн. Вместо же Юлия Арнольдовича открывает дочь
его, и с вечной полуулыбкой, только на сей раз растерянной, сообщает:
"А папа помер. Утром плохо стало, кровью рвало, скорая приехала, не
взяла - туберкулез, инфекция... Пока специальная ехала - помер. Раньше
это скоротечной чахоткой называли..."
Стояли в дверях, Николаша не ведал, что ему делать и говорить. Не
ведала и Бася. Но пригласила: "Входите". Вошел. В высокие окна комнаты
ярко брызгал закат - Бася застыла в профиль на его фоне, и отчего-то
(он сам не мог объяснить, отчего?) Николаше очень глянулись Басины
пухлые губы, захотелось их поцеловать. А тут случай и представься: Бася
сказала, что квартиру - скандал, скандал! - санитарные власти
постановили закрыть на дезинфекцию, дело нешуточное, туберкулез.
- Где же ночевать будешь?
- В отделение поеду, в сестринской на диване.
Николаша положил руку на Басино плечо, как бы в утешение, погладил,
погладил, уткнулся носом в волосы: "Ах, как пахнут твои волосы!"
"Грязью пахнут, не мыла давно." А все равно, чем! Он повернул Басю к
себе лицом да и поцеловал. Еще, еще, подтолкнул легко к кровати,
повалил, последней лопатой в топку похоти стал слабый возглас: "Я еще
девушка..." Потом, вспоминая эту сцену соблазнения и сватовства,
Николаша решительно понимал, что кабы не смерть "учителя" да не
дезинфекция, он навряд позволил бы себе таковое деяние. Просто потому,
что Бася ему не нравилась - рыба и рыба, худая, костлявая, холодная. Но
вот эти пухлые губы, на которые падали отголоски закатного солнца,
вызвали в нем мгновенные и жалость и похоть, последствия которых
оказались далекими, словно рельсы. И это "я еще девушка"! К чему?
В тот вечер он увез Басю к себе домой, объявив родителям, что вот, мол,
это его невеста.
Жить же стали на Волхонке, откуда Николай Петрович каждый день шесть
раз в неделю ездил в Строгино - час сорок пять туда да час сорок пять
обратно.
Изменил Николай Петрович Басе уже спустя неделю после женитьбы, изменил
в родительской квартире на Соколе. И потом изменял, все тридцать лет
изменял часто. Причем Бася об этом, кажется, и не догадывалась, во
всяком случае - молчала-таила. Все тридцать три года молчала. А вот
ее-то, законную свою жену, Пурин за все эти годы употребил по
супружески считанное количество раз. Это случалось так: он смотрел на
нее, она улыбалась в ответ как бы виноватясь за потухшие свои губы, он
же недоумевал: что же такое воспалило его тогда в этих вялых чертах?
Наверное, долг, долг, не иначе. Сие скучное заключение неожиданно и
парадоксально возжигало его плоть, и он брал ее, закрыв глаза и
воображая никогда не существовавшие закатные губы.
Работала Василина в поликлинике физиотерапевтом. Как жили они все эти
годы, Николай Петрович толком рассказать бы не сумел: как-то проживали.
Вечерами он возился с тетрадями, потом включал музыку, принимался за
переписку в амбарную книгу очередного томика, добытого невесть какими
путями. Бася же вязала, вязала. Она почти все деньги свои тратила на
шерсть. Вязала же оттого, что постоянно мерзла и полагала, что равно
мерзнут и другие - аукалось зябкое военное детство. Они почти не
разговаривали, она почти не готовила - разве сосиски да гречку, и вся
кулинария.
Попутно Николай Петрович жил во все тяжкие: спал с учительницами своей
и соседней школы, дома не ночевал, врал, что останется у родителей, что
де далеко всякий день туда-сюда мотаться.
Бася верила, верила. Да и детей у них не случилось - какой-то там у нее
по женской части был непорядок, о котором говорить стеснялась. Она
вообще говорить не любила. Улыбаться - да. Пурин прозвал ее
"блаженненькой".
Николай Петрович открыл дверь - кислый разночинный запах царил, как и
пол- и четверть века назад - неистребимо. Опустился на стул в прихожей,
распутал шнурки, снял пальто, вдел ноги в тапочки и на кухню. Вынул из
сумки пакет, тот самый, что вынимал и порывался оставить на паперти.
Извлек женские войлочные полусапожки советского еще фасона с кокетливой
вышивкой по голенищу - цветочки, цветочки алые да зеленые. Еще почти
новые, почти еще ненадеванные, чуть подошва на каблуках поистерлась -
если кто и носил, то недолго. Вздохнул, поставил сапожки под вешалку,
пошел на кухню, достал из холодильника кашу и сосиски. Пока
грелось-варилось, разделся, набросил на плечи старый халат.
Выпил рюмку дешевой водки, занюхал горбушкой ржаного хлеба, наспех
поужинал. Сел на диван, взял со столика амбарную книгу № 3 (они все
были пронумерованы) со стихами Гумилева, полистал, отыскал "Заразу",
медленно, с выражением, как некогда на уроке, прочитал вслух:
"Приближается к Каиру судно с красными знаменами пророка, по матросам
угадать нетрудно, что они с востока..."
В школе Пурин блистал! Явился в нем зримо актерский талант:
проникновенно, но без ложного пафоса декламировал ученикам стихи,
которых со временем выучил наизусть сотни. Стихи на любой случай, где
нужно - строку, где строфу, а где - и целиком. В любимчиках у него
ходили Гумилев да Заболоцкий, но пуще всех - Мандельштам. В школьной
программе до самого конца 80-х таких стихов не числилось, но ни разу ни
один из учеников его, даже из самых нерадивых, лишенных какого бы то ни
было поэтического и музыкального вкуса, не выдал, не наябедничал по
начальству про миниатюрные лекции своего литератора, которым он
посвящал окончание каждого урока. Разберут образы комсомольцев в
"Молодой гвардии", останется семь-восемь минут и расскажет Николай
Петрович апокриф о последних днях Мандельштама, как того, уже мертвого
тащили зеки в строй, чтоб не лишиться нелишней пайки. А на сладкое
прочтет: "Есть женщины, сырой земле родные, и каждый шаг их гулкое
рыданье...". Разумеется, дети стихов этих не понимали, но, как ни
странно - любили.
Пожалуй, лишь одного из опальных тогда поэтов Николай Петрович не
жаловал - Пастернака. Самым любознательным своим ученикам, которые не
без душевного трепета восклицали про февраль-чернил-и-плакать, Пурин
пенял деликатно: ничего, это возрастное, гормональное, вырастете,
поймете: всю поэзию свою Борис Леонидыч вынимал (так, девочки, закрыли
ушки!) - из трусов!
Смех, детский, без оглядки!
Пенсионер теребит пульт телевизора: включать - не включать? Нет.
Продолжает чтения. Но вместо "женщины, которою дано, сперва
измучившись, нам насладиться" в висках выстукивается дурь: "Бася, Бася,
Василина, мордочка из пластилина..."
Встает, встает тяжело, ноги устали, не желают гнуться. Шаркает на
кухню, опять берет сапоги. Нюхает пыльный войлок.
- Застоялись без хозяйки... Теперь таких не делают... - в гулкой кухне
привычное бормотание. - Теперь в таких выйдешь - засмеют! Ничего,
ничего, молчание, молчание.... Вы думаете, мне легко? А как помру? А
один?! Воды подать некому... Впрочем, какая вода мертвому, хе-хе-хе! -
припарки!
Николай Петрович вдруг замирает, прислушиваясь, лицо его одевается в
легкое беспокойство.
- Ну-ка, ну-ка...
С чувяками в руках плетется во вдовью свою спальню, почти всю площадь
которой занимает старая, родительская еще, деревянная кровать, а слева
за дверью ютится узкий высокий шкаф с пожитками.
- Ну-ка, ну-ка...
С прикроватной тумбочки берет механический будильник, прикладывает к
уху - молчание. Трясет - молчание. Крутит завод - ничего.
- Ты что ж это? Ты зачем, родной?
С самого детства Николай Петрович панически боится остановившихся
часов, даже и нарисованных! Все тщится найти разгадку этой фобии, но не
может. Дело дошло до того, что он физически не может находиться,
скажем, в музее, если по стенам развешаны старинные, и, разумеется, не
идущие, часы - такие залы пробегает поспешно. Когда же он замечает, что
остановились уличные часы, мимо которых лежит его путь, на другой же
день меняет маршрут.
- Эй, родной, родной!
Будильник не отзывается, лишь щелкает пару раз, когда хозяин его
трясет, и опять молчит, глухо молчит.
Пурин идет в проходную комнату, распахивает балконную дверь и швыряет
механизм вниз, в сугроб.
Расстались, притертые друг к дружке долгими годами совместного
проживания, Бася и Николай Петрович неожиданно. Уже давно умерли его
родители, уже давно расселили и перестроили дом на Волхонке - Бася
взамен получила однокомнатную квартирку на "Спортивной". Хотели ее
сдать, да постеснялись чужих людей, побоялись хлопот. Жили на Соколе.
Бася вышла на пенсию. Вязала, смотрела сериалы, начала даже ткать
гобелен - он, не законченный, висит над кроватью Николай Петровича:
ива, пруд, плывет кто-то - то ли гусь, то ли лебедь. Фона как бы и нет
- не доткан.
Однажды, февральским вьюжным деньком Бася отправилась на свою квартиру
- цветы полить, пыль вытереть, счета забрать. Открыла дверь и первое,
что увидела - голый мужнин зад кузнечным прессом вздымался и опадал над
диваном, вздымался и опадал. Правее же, в душных подушках тонул
смазливенький девичий лик. 57-летний Николай Петрович совокуплялся с
ученицей своего выпускного класса, с Тоней Баруздиной. С той самой
очаровашкой Тонечкой, что с подружками пару раз заходила к мужу на
консультации, Бася поила их чаем.
И Бизе, Бизе радостно гремел. За Бизе полюбовники Басю не услышали -
зад не прервал фабричного хода. Бася тихохонько прикрыла дверь - А-ах,
Карме-ен, Карме-ен! - на цыпочках спустилась по лестнице, вышла в
снежную улицу - метель, метель мела - во-все-концы-во-все-пределы -
и исчезла.
Николай Петрович обзвонил, как водится морги да больницы, а как прошли
три дня - заявил в милицию. Басю объявили в розыск, да и не нашли.
Пурин ума не мог приложить - куда пропала эта почти старуха, в кошельке
которой (если кто и позарится) отродясь не бывало и пятисот рублей.
Сперва был растерян, слонялся, обвялился, с трудом терпел работу, годы
до пенсии протянул машинально, по обязанности. А как вышел, сдал Басину
квартиру, стал доживать.
Вместе с пропажей Баси, прекратились и сексуальные похождения Николай
Петровича. Лишь изредка, примерно раз в месяц, из "терапевтических
соображений" (Пурин свято верил: секс продлевает жизнь) спускался он
прямо в тапочках на второй этаж, где в такой же квартирке жила одиноко
вдова Таисия Павловна (тоже ведь бывший врач - везло ему на докторов) и
уестествлял ее к ее удовольствию. Причем сам никакого удовольствия не
испытывал, только боль да скуку. Но всякий раз убеждал себя, что нужно,
нужно, хотя бы и "с гигиенической точки зрения", хотя бы только с нее.
Либидо же угасало, угасало. Таисия Павловна вопрос о юридической
стороне соитий поднимать не торопилась, знала: сосед, хоть и вдовец, но
как бы и соломенный. Сама же появлялась на его пороге регулярно, то
супчику кастрюльку принесет, то курочку жареную, то
котлет-солений-варений-пирогов. Приручала.
В процессе уестествления, Николай Петрович Таисию Павловну старался не
видеть, ее морщин да кожи сухой лишний раз не замечать, но вот худые ее
запястья, опушенные с внешней стороны светлыми волосками,
лезли, лезли в глаза, да так, что почти вслух проборматывал: "Ишь ты,
лапки курячьи! А че такие худые?! И бульона не сварить порядочного!.."
Когда Николай Петрович лег, ему вдруг предположилось, что будильник мог
снова пойти после падения, "шоковая ведь терапия, дурашка механическая!"
Не поленился - оделся наскоро, вышел на улицу. Холодно, пронзительный
ветер крутит вихри во дворе.
Вот сугроб, вот мерзлый товарищ - Пурин купил его в универмаге у метро
бог знает сколько лет назад. Молчит.
Николай Петрович кладет его на асфальт и бьет ногой, бьет, бьет, треск,
треск, белый кругляк будильника превращается в лом. Собирает, несет,
кладет в мусорный бак.
Возвращается, ложится. Завтра, завтра опять вояж, опять "Третьяковка",
ахматовская церковь... Три нищенки: Надежда-карлица, Нинка
расслабленная да Василина рыбьеспинная - его, между прочим, законная
жена.
Прошлым апрелем, голубым, веселым, обнаружил он давнюю пропажу на
знакомой паперти. Свою "блаженненькую". Только вот она его не признала,
стояла с протянутой кружкой, улыбалась апрельскими своими глазами, дура.
Завтра он - клянусь! - ругаться удержится, плеваться не станет, просто
подойдет, одарит без слов ее вместо милостыни пакетом с войлочными
чувяками.
"И думал я витийствовать не надо, мы не пророки, даже не предтечи, не
любим рая, не боимся ада, и в полдень матовый горим как свечи..."
Шепчет, шепчет, и все не нашепчется. И про бога бандита, что увел у
него жену, и про то, как жутко одному-то ко такому-то господу будет
отходить. Напоследок вспоминает свой старый, любимый - ровно дитя
родное! - будильник. Шепчет ласково:
- Пидарас... вонючий...
Продолжение следует
Игорь Зотов -
прозаик и журналист, несколько лет возглавлял газету "НГ-ЕХ LIBRIS".
Работал переводчиком в Мозамбике. Автор книги "День Деревякина", романа
"Аут". Живет в Москве.