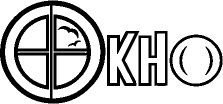
ЕВГЕНИЙ ШКЛОВСКИЙ (МОСКВА)
Два рассказа
ПОЮЩАЯ ДУША
1. Голос трудно отделить от
человека. Не значит ли это, что и в самом певце, в глубинах его
существа кроется первоисточник? Вроде как и сама личность должна быть
какой-то необыкновенной.
Я вижу, как она плачет.
Плачет, вытирает глаза то платочком, то тыльной
стороной ладони, низко наклоняет голову, стесняясь своего плача.
Интересно все-таки устроен человек. Кто бы мог подумать, что завяжется
такая ниточка, протянется через годы и страны, через... Даже трудно
сказать, через что... Впрочем, если угодно, то и через смерть, и через
пустоту...
Мне видится тьма, изредка разрываемая звездными
сполохами, туманная млечность, и внезапно - круг ослепительного света,
как на сцене, когда тебя выхватывает из темноты мощный луч юпитера и ты
один на один с замершим залом, пока еще почти не различимым. Уже
прозвучали первые аккорды, уже родилась мелодия, ты с волнением
готовишься взять первую ноту, разорвать эту набухшую тишину... Связки
напряглись, откуда-то из глубины надвигается, нарастает первый, самый
важный, самый главный звук, которому назначено отдернуть завесу,
опрокинуть плотину немоты, осенить, покорить пытающуюся жить
самостоятельно музыку. Слиться с ней, чтобы вместе сотворить чудо
гармонии.
Музыка - не от мира, а человеческий голос - прорыв
туда, в запредельное, полет в стратосферу, в неизведанные пространства,
которые вдруг оказываются близкими и одушевленными.
Да, голос в согласии с музыкой способен творить
чудеса. Я видел это, еще когда пел в нашей маленькой синагоге в
Черновцах. Лица прихожан буквально преображались - столько в
них появлялось нового, трогательного, возвышенного, печаль перемежалась
с надеждой, радость с грустью, глаза загорались любовью... Люди
становились нежными и кроткими, как ягнята, а то вдруг в их лицах
возникали алые отблески пламени - не того ли самого, каким вспыхнул
перед Моисеем терновый куст, сполохи огненного столпа, что вел ночью
народ Израилев через пустыню из египетского плена?
Добро бы еще она слышала мое пение в реальном
исполнении - без шорохов, потрескиваний и прочих изъянов старой записи.
Только в живом голосе первозданная чистота и глубина, только в нем
можно расслышать душевную самость, которая доверчиво и страстно
открывается миру.
Увы, время нанесло на звук свою окалину. Но эта
женщина слышит. Душа слышит душу даже через время и небытие, не это ли
и есть прообраз вечной жизни, ее отсвет для тех, кто еще влачит земное
существование?
Впрочем, не так. Не влачит - живет! В этом слове
кроется великая и сладчайшая тайна. Жизнь, какая ни есть, так ненадолго
дарованная человеку, - прекрасна. Я это понял, впервые услышав музыку и
ощутив прилив звука к горлу, звука, который должен был стать и стал
песней. Только жизнь, только явь и свет! Даже когда музыка печальна и
исторгает слезы, а песнь вторит ей тоскующими, безысходными словами,
этот свет все равно пробивается, окрыляет душу, уносит ее в те
волшебные сферы, где над всем торжествуют великое "есмь" и великое
"да".
Не знаю, что уж произошло у этой женщины, но в том
крохотном зальце в гигантском незнакомом городе, где мне не привелось
побывать, среди немногих собравшихся послушать записи моих выступлений
она выглядела растерянной. Судя по всему, она оказалась здесь впервые.
Видимо, ей нужно было куда-то выйти из своего одиночества, оторваться
от семейных или каких-то других неурядиц, просто побыть среди людей.
Возможно, она уже кое-что слышала про эти
музыкальные лекции, да и не столь важно. Ну что ей до моей так и
несложившейся жизни, до всех моих удач и поражений, которых было
гораздо больше и которые, покатившись снежной лавиной, в конце концов
слились в одну-единственную, все обрушившую катастрофу? Что ей до нее?
Впрочем, это я так, пустое брюзжание. На самом
деле тут-то, возможно, и кроется загадка человеческой души - в
способности раскрываться и откликаться навстречу далекому, принимать
его в себя поверх всяких барьеров. Конечно, музыка - великая вещь, в
основном это ее заслуга. Ну и, не буду скромничать, мой голос тоже
чего-то стоил, им восхищались многие, с нетерпением ждавшие моих
выступлений, готовые за любые деньги покупать билеты на концерты, даже
не раз смотревшие жалкие (сам это понимаю) фильмы с моим участием.
Воистину неисповедимы пути. Робко ступает она на
порог Еврейского общинного дома. Что делает здесь эта крещеная
православная русская? Она поднимается по широкой лестнице на третий
этаж в читальный зал библиотеки, она спрашивает у худощавой приветливой
библиотекарши материалы не о ком-нибудь, а обо мне.
Ей мало слушать записи. Ей хочется побольше узнать: каким я был, как
жил, чему отдавал предпочтение? Про все, что сопровождает нас в земных
странствиях.
Еще одна иллюзия.
Но ведь откуда-то же берется в этом голосе, в его
тембре, в его поразительных модуляциях, в его объемности, силе и
свободе нечто, к физиологии не имеющее отношения?
А может, она хочет ближе узнать мою религию,
почувствовать мою веру, где, помимо природной одаренности, как она
предполагает, таятся ключи к моей певческой уникальности. Она хочет
узнать ближе нашего Б-га, хотя разве Он только наш?
А был ли я таким уж верующим? Не знаю. Моей верой была музыка, в самые
лучшие, самые вдохновенные минуты, когда душа вся растворялась в пении
(тоже своего рода транс), когда буквально сгораешь в охватившем тебя
пламени и вправду ощущаешь себя в единении с чем-то великим и
непостижимым.
Незабываемое, неповторимое переживание, которое хочется длить и длить
сколько хватит сил! И откуда-то эти силы берутся, словно их черпаешь из
какого-то поистине чудесного кладезя.
Наверно, это состояние может передаваться,
заражать других. Женщины вообще эмоциональней, чувствительней,
восприимчивей к такого рода вещам. Она же способна слушать мое пение
бесконечно - возясь на кухне, пришивая оторвавшуюся пуговицу, занимаясь
привычными обыденными делами. Или, наоборот, замерев и закрыв глаза,
словно что-то видит там, в облаках своих чувств и мыслей. Лица ее в эти
минуты будто касается луч солнца.
Кто-то скажет: типичный фанатизм, кто-то усомнится
в правильности такого слушания - ведь музыка требует определенного
настроя, внутреннего сосредоточения.
И тем не менее.
2
Голосом природа действительно одарила меня редкостным. Знатоки
сравнивали с самыми великими певцами, но, увы, при этом я был лишен
прочих далеко не лишних качеств. Маленький рост и вообще невзрачность
отняли у меня возможность петь в опере - несколько спектаклей, и всё, а
ведь я обожал оперу, восхищался знаменитыми певцами, мечтал петь на
сцене...
Не сложилось.
Продюсеры и режиссеры, отдавая должное моим
уникальным вокальным данным, так и не смогли преодолеть диктата
зрелищности. Не подходил я им. Утешением стали сольные концерты и,
конечно, радио, при, увы, тогдашнем акустическом несовершенстве.
И все-таки я познал вкус славы, хотя, честно
говоря, не очень к этому стремился. Конечно, любой артист жаждет
признания, настоящего, безраздельного. А чего больше всего мог хотеть
низкорослый некрасивый еврей из провинциального захолустья? Еврей,
запуганный историей своего богоизбранного народа, народа-изгоя,
постоянно опасающийся очередного унижения или даже зверства. Тошнотный,
тлетворный дух кровавых кишиневских погромов еще носился в воздухе - об
этом помнили и те, кто слушал мое пение в черновицкой синагоге, где все
начиналось, помнили и забывали, молились и черпали забвение. Голос
уводил их в другой, чудный мир. Страх и отчаянье отступали.
А мне, мне тоже хотелось, может, даже и не
признания... просто - любви. Да, именно любви, большой, безраздельной,
самопожертвенной. Такой, какую может дать, наверно, только женщина. Или
любовь Б-га, но не суровая ветхозаветная, а кроткая и всепрощающая.
Такая, для которой несть ни эллина, ни иудея.
Влекло и другое - мысль, что мой голос, этот
бесценный и, увы, преходящий, как все смертное, дар, принадлежит не
только мне, что он нужен другим, жаждущим преображения, причащения
чему-то высшему.
В какое-то мгновение помстилось, а, впрочем,
возможно, именно так и было: вся Германия, родина великой музыки и
великих музыкантов, утонченная ценительница искусств, у моих ног.
Взыскательный Берлин, где я появился незваный-непрошеный, сдался,
уступил. Музыка сама по себе страсть, а с голосом она больше, чем
страсть, она - молитва.
Да, был миг, когда так и показалось: мой голос,
мое пение зажгли пламя в душах слушателей, в нем должны были
расплавиться все различия между людьми - здоровыми, больными, немцами,
евреями, поляками, русскими... Одна общая человеческая
душа - возвышенная, прекрасная, какая только и могла быть угодна Б-гу.
Только такая и способна исполнить свое предназначение.
Увы, как же я заблуждался!
Ходил слух, что мое пение слушал даже главный
изверг, сумевший погрузить сытую, благополучную Европу в мрак и хаос.
Он еще только подбирался к власти, только раскидывал свою паутину, еще
только варил в своем дьявольском котле ядовитый дурман.
Между тем уже нельзя было петь ни на сцене, ни на
радио - нужно было срочно бежать из сатанеющей Германии, где начинались
гонения и расправы. Успех, слава? Пустяки, тлен... Зверю крови и почвы
требовались жертвы. Гекатомбы жертв.
Увы, здесь уже верховенствовала другая музыка.
Гимны, марши и под сурдинку бесовской хохоток с подвизгом, подвыванием
и кряком. Ночь и шабаш...
Хорошо, нашлись люди, которые поняли это и помогли
вовремя уехать. Франция, Швейцария... Однако даже в свободной Швейцарии
не удалось избежать лагеря -пусть и не концентрационного, не лагеря
смерти, где людей превращали в жалких рабов, мучили и педантично
стирали в прах. Но и лагерь для беженцев, для перемещенных лиц не был
пансионом. Все, кто оказался здесь, томились и бедовали, чувствуя себя
шлаком, который не выбрасывают только из милости.
За меня хлопотали: как же, все-таки известный певец! Но тех, кто
заправлял делами, не слишком это волновало. А когда я, изнуренный всеми
передрягами, серьезно занемог, увы, никто не поспешил с помощью...
Так все и кончилось, остались только голос и
песни... С шипением и хрипотцой старых звукозаписей, которым эта женщина
так вдохновенно внимает. Иного слова, пожалуй, и не подберешь. Именно
вдохновенно. Ей не помеха потрескиванья, шуршание, шорох... Она внимает
самому важному - именно тому, что способна услышать только одаренная,
поющая душа.
ДИОСКУРЫ
Оба просто красавцы: широкая мощная грудь, косая сажень в плечах,
смуглые, несмотря на раннюю весну... И улыбались приветливо, по-доброму,
отчего у пациентов сразу улучшалось настроение. Рукопожатия, а они их
щедро раздаривали направо и налево, несли на себе печать этого
великолепия, сочетая силу и вместе с тем аристократическую
сдержанность. Непонятно, как братьям это удавалось, такая гармония и
соразмерность во всем, словно родились в какой-то другой стране - в
Греции, например. В Древней Греции.
Именно так, наверно, выглядели античные атлеты, а
может, и боги, когда принимали человеческий облик. Спокойные и вместе с
тем быстрые. Ловкие. Решительные.
Диоскуры - так мысленно (вместе с главным героем)
назовем их.
Бобби (главный герой) удивлялся, как младший
Степан разговаривает с подружкой, а может, и женой, по телефону.
"Любимая, - говорил он, - почему ты не сказала вчера, что сегодня у нас
вечером встреча с твоими родителями? Я же не могу все время стрелять с
бедра, надо же заранее предупреждать, у меня же могли быть другие
планы. Нет, все в порядке, конечно, я буду, но, любимая, давай
договоримся на будущее..."
Получалось убедительно, подружка, судя по всему,
не обижалась, ведь во всей этой речи слово "любимая" звучало чаще
всего. А "стрелять с бедра" Бобби и вообще прежде не приходилось
слышать. Если бы он не знал, что по профессии оба Диоскура - хирурги,
то наверняка бы подумал, что они как-то связаны с военным делом, тем
более что и выправка у них соответственная, кавалергардская, можно
сказать.
Неизвестно что там со стрельбой, но с профессией
они точно угадали - если уж не военными, то именно хирургами им и
следовало быть. Сильные надежные руки - самое верное приложение к
скальпелю. К такому доктору испытываешь доверие, настолько физически он
соответствует своему назначению.
А Бобби, если честно, волновался: все-таки чужая
страна, неизвестно какая медицина и вообще... И лишь увидев Степана,
пожав протянутую для приветствия большую сильную ладонь, в которую и
его не такая уж мелкая скользнула, как рыбка в затон, почему-то сразу
успокоился.
Впрочем, операция уже была сделана, все самое
страшное позади, он поправлялся и ждал с часу на час выписки. Но Степан
время от времени заходил его проведать и вообще был очень внимателен.
Немного о Бобби. Англичанин, иными словами
иностранец, почти инопланетянин, потому что каждый, кто приезжает
учиться или работать в Россию, все равно что инопланетянин, зрачки
расширены и в них столько же удивления, сколько и зачарованности,
наивной и честной.
Бобби двадцать один, в Россию его занесло почти
случайно, поскольку в родном Дареме у него наметились серьезные
проблемы из-за муравки (русское ласкательное словечко, в тот момент
Бобби еще неведомое), к которой он пристрастился еще во время учебы в
колледже.
Реальность скучна и сера, все пропитано
буржуазностью, лицемерием, культом золотого тельца и всякой унылой
приземленной дребеденью, называемой гигиеной, моралью, еще всякими
безвкусными словами, муравка же помогала расправить крылья, узреть мир
в других красках, короче, подняться в вышину, в зависимости, понятно,
от количества и качества.
Очень высоко подниматься было страшновато, и
Бобби, случалось, сам себя обвинял за это в буржуазности и конформизме,
так что улеты всякий раз превращались в эксперимент над собой, как у
спортсмена-прыгуна в высоту - планка все выше и выше, возьмет или не
возьмет? Последний эксперимент настолько удался, что ему надо было
срочно менять место жительства, иначе все могло кончиться плачевно:
буржуазность не дремала и отреагировала мгновенно, заведя на него досье
как на плохого мальчика (bad boy).
И тут кто-то из сведущих знакомых посоветовал
податься в Россию, где сейчас как раз перманентная революция, где все
хотят учиться английскому, тьюторов не хватает и деньги можно грести
лопатой не особенно напрягаясь. Да и развлечений в Москве столько,
сколько ни в одном другом городе, сплошной карнавал. С муравкой там
тоже проще, поскольку Азия, откуда ее доставляют, не так уж далеко. И
вообще именно в этой оч-ч-чень большой и загадочной стране с
многочисленными красотками нынче интересней всего. Пусть это даже не
так экзотично, как Индия или Китай, не так экологично, как Голландия,
но зато и не так тривиально, да и к европейцам относятся с пиететом.
Идея показалась забавной, Бобби, не долго думая,
покидал самое необходимое в большой чемодан на колесиках, без проблем
получил визу, с облегчением махнул рукой буржуазным папе с мамой и с
англо-русским разговорником подался в неведомые края.
Москва, к некоторому его разочарованию, оказалась
вполне европейским городом... ну почти европейским. Мест для развлечений
действительно полно, девочек невпроворот, особенно после того, как он
устроился преподавателем на курсы английского: студентки как на
подбор, а он как нейтив, к тому же и сам по себе ничего -
высокий, гладкий, с кокетливым маслянистым ирокезом на голове -
пользовался успехом. Девочки милые, хотя многие наивно рассчитывали на
что-то, приходилось объяснять то на хорошем английском, то на дурном
русском про свою матримониальную неготовность или просто молча менять
композицию.
На курсах ему помогли снять неплохую однушку
неподалеку от работы, посоветовали приличный фитнес-клуб с бассейном, в
общем, жизнь налаживалась и обещала всяческие радости. С муравкой,
однако, было напряжно - даже не в плане доставания, с этим
проблем не было, а из-за сомнительного качества. Дважды он траванулся
так, что чудом избежал больницы, и с тех пор осторожничал, пытался
раздобывать из проверенных источников.
Что касается буржуазности, то в Москве ее было
предостаточно, не меньше, а может, даже и больше, чем в родном,
скромном Дареме. Вот только была она какая-то другая, более дикая, что
ли, неопрятная, попахивающая блатняком. Она не только не пряталась за
добропорядочностью, а напротив, выставляла себя в самом неприглядном,
разнузданном виде и тем самым себя отрицала. Чего под ней не
чувствовалось, так это почвы, традиции, истории. Эпатировать ее и тем
более бороться с ней было бесполезно, поскольку не с чем было бороться:
она была как призрак. Но что самое неприятное, в самом себе Бобби ее
здесь чувствовал намного острей, чем в родных пенатах, хотя и пытался
ее изживать.
Ночные тусовки в клубах, тяжелые серые утра, смена
партнерш - все это изматывало и не приносило того удовлетворения,
которое бы оправдывало труды. Все было как-то бесформенно, бестолково,
хаотично, мутно, как в голове после муравки и русской водки. Курсы
через полгода пришлось оставить, поскольку он часто опаздывал и бывал
не в форме, а там этого не одобряли, там буржуазно дорожили репутацией.
Впрочем, он быстро набрал частных уроков, на жизнь
хватало, ученицы (в основном) становились подружками, приходили,
оставались, уходили, устраивали скандалы, возвращались, снова уходили...
Дважды он переселялся к ним, оставляя арендованную квартирку за собой,
и всякий раз ретировался обратно, в свою берлогу, к которой уже привык
и где чувствовал себя дома, не забывая, разумеется, что это всего лишь
временное пристанище. И хорошо, что временное, поскольку именно
собственное жилье, комфорт, надежность и стабильность - соблазн, искус,
неизбежно влекущие за собой буржуазные заморочки.
Впрочем, в Москве, ведя довольно богемную жизнь,
он периодически забывал о своем протесте. Здесь было что-то другое, он
даже не смог бы дать этому определение. Просто некоторая длительность,
прохождение дней, протекание будней, ватность бытия. Лишь муравка,
употребляемая, впрочем, весьма дозированно, малость расцвечивала
существование, придавая всему забавность и некую сомнительность.
Все так и было, пока с Бобби не приключилось
банальное - аппендицит, оказавшийся к тому же гнойным и едва не
перешедший в нечто более серьезное, поскольку он поначалу отнесся к
этому довольно легкомысленно. В результате больничная койка, и то -
благодаря очередной подружке, которая, проявив смекалку, вызвала
стенающему и корчащемуся от боли приятелю "скорую". И вот теперь он
лежал в шестиместной тесноватой палате, брезгливо вдыхал пропахший
лекарствами воздух и ощущал себя каким-то особенно посторонним.
Тем более Бобби было приятно внимание, которое ему
оказывали два доктора, два великолепных брата-атлета, похожие скорее на
античных героев, нежели на врачей, пусть даже и облаченные в белые
халаты на голое тело и такие же белые шапочки, которые, кстати, хотя и
шли им, подчеркивая мужественную смуглость кожи, все равно казались на
них чем-то чужеродным.
- Ну что, старина, малость облегчили тебя, - с
добродушной усмешкой говорил Степан, старший, присаживаясь на хлипкий
стул возле койки, который тяжко поскрипывал и грозил развалиться под
весом мощного тела. - Вот уж не думал, что у британцев случается такая
скучная плебейская болезнь.
Бобби напрягался, лихорадочно соображая, правильно
ли он понял фразу, но на всякий случай улыбался, поскольку и соседи по
палате, народ разновозрастной, тоже ухмылялся. Доктор явно шутил, и
хорошо бы еще уяснить, не слишком ли обидна шутка, раз упомянуто его
гражданство. К тому же повод для иронии у оперировавшего его хирурга
был: на операционном столе Бобби вел себя не очень мужественно,
испускал довольно громкие стоны, не совсем даже соответствующие
реальным болевым ощущениям, а как бы предвосхищая их.
- Не волнуйся, парень, - словно видя его насквозь,
успокаивал Степан, - все хорошо. Не нужен тебе был этот рудимент. Через
денек-другой выпишем тебя и будешь как огурец. - Он увесисто хлопал его
по плечу. - Давай, не унывай, все позади.
Это ободряющее похлопывание умиротворяло Бобби
больше, чем слова, смысл которых по отдельности вроде был ясен, а вот
вся фраза вызывала сомнения.
Вечером к британскому гражданину заглянул младший Василий. Он был похож
на брата, и все-таки лицо немного другое, более отчетливое, что ли,
более волевое. И говорил он мало, хотя держался столь же приветливо и
располагал к себе не меньше, а может, даже больше, чем старший.
- Ну что, Бобби, сразу домой, к родным туманам или
еще пожируешь среди наших осин? - И не дожидаясь ответа, понизив голос
до еле слышного шепота добавил: - Ты с муравкой-то
поаккуратней, а то ведь и неприятностей нажить можешь. Здесь не
Голландия и не Латинская Америка.
Как они узнали про его слабость, Бобби мог только
догадываться. Не по запаху же, тот наверняка перебивался табаком,
которым пропахла его одежда. Забота была приятна, как если бы Диоскуры
были и его братьями, пусть даже и не родными. В России у него не раз
бывало такое странное чувство, что люди здесь вроде как родственники и
давно тебя знают, даже если только-только познакомились. Что-то
иррациональное, не имеющее отношения к обычным буржуазным условностям.
Ему это нравилось, хотя привыкнуть было не просто, иногда даже казалось
чем-то вроде обидной снисходительности: дескать, иностранец и есть
иностранец, что с него взять?
Что касается Диоскуров, то формальности в их
отношении Бобби действительно не чувствовал, а когда неожиданно для
самого себя поделился этим ощущением со Степаном, тот улыбнулся:
- К врачебной этике, старина, это не относится.
Врач должен быть прежде всего внимательным и ответственным, а прочее уж
как получится. Формальность тут лишь вредит, так как это требует
дополнительного напряжения, а кому оно нужно? Люди не понимают, что для
здоровья, причем не только душевного, важна именно приязненность,
расположенность к другим. Если я отношусь к тебе хорошо, то мне и
самому хорошо. Держать за пазухой камень значит почти наверняка нажить
камень в почках. Это, так сказать, метафора. Вот у нас батя, крутой
мужик, - он чуть понизил голос, - в органах работал долгое время,
железный Феликс, а скукожился в один момент, едва только перестройка
началась. При каждом звонке дергался и хватался за пушку: "Это за мной,
живым не дамся!" Ну и чего? Три инфаркта подряд, язва желудка и еще
куча всего, о чем даже не подозревалось... Так что насмотрелись. Теперь
вот подлечиваем его.
Бобби слушал и улыбался, догадываясь, что далеко
не все понимает из сказанного. И тем не менее было приятно, что к нему
так относятся, даже чем-то личным делятся. Чуть приподнявшись на
подушке, он любовался красивым смуглым лицом доктора и думал, что
все-таки эти русские странные: зачем рассказывать совершенно чужому
человеку про своего отца, сотрудника, если он правильно разобрал,
секретных служб, про его болезни и прочее? И при этом вроде как
искренне, даже с каким-то особым чувством, словно такая доверительность
входит в его обязанности или как-то может содействовать скорейшему
выздоровлению пациента. Правда, Степан не со всеми больными так
откровенничал, а почему-то именно с ним, с Бобби, явно его выделяя.
Заживало у Бобби довольно быстро, он разгуливал по
коридору, перемигивался со смазливыми медсестрами, накинув куртку,
выходил на улицу покурить, играл на планшете в angry birds, читал
детектив на английском и уже совсем был готов к выписке. Разок ему даже
удалось устроить себе праздник - попользоваться муравкой, которую
принесла вместе с потрепанным детективом и сигаретами подружка, так что
полдня потом он с блаженной улыбкой валялся на кровати и слушал в
наушники любимых реперов. Все-таки жизнь клевая штука, даже и в России,
к счастью, не совсем еще обуржуазившейся. Было в ней что-то
неразгаданное, озадачивавшее, хотя в остальном ничего особенного,
страна как страна, ну разве малость дикая, хотя его лично это вполне
устраивало.
В ту же ночь, в объятиях морфея (не обошлось и без
муравки), Бобби пригрезилось нечто совсем фантастическое. Он
расслабленно бродил по золотому горячему песку где-то в теплых южных
краях, любовался бирюзой моря с играющими на волнах солнечными бликами,
водил хороводы с юными полуобнаженными девами, бегал наперегонки,
стрелял из лука и метал копье, соревнуясь в меткости с другими
стройными, атлетически сложенными юношами, среди которых выделялись
великолепные Диоскуры, наслаждался чарующей музыкой, извлекаемой из
каких-то неведомых инструментов, и так все было восхитительно - легко,
безмятежно, любовно, будто все они были близкими родственниками,
братьями и сестрами. Сильно, радостно билось сердце в предчувствии еще
чего-то, светлого и незабываемого, голова кружилась от переполнявшего
душу счастья, хотелось обнимать и целовать всех и каждого...
Как-то, незадолго до выписки, Бобби в наушниках
прогуливался с сигареткой по двору больницы, слушал музыку, и вдруг
кто-то цепко взял его под руку. Ага, так он и думал, Кастор. Или
Поллукс, все равно. Все-таки огромные они были, эти братья. И сам не
маленького роста, Бобби был на голову ниже обоих, не говоря уже о
прочих параметрах. А Кастор, он же Поллукс, держал его под локоток,
склонялся к нему и негромко, чуть ли не шепотом говорил:
- Ты, хлопец, может, парень и неплохой, но вот
что, давай-ка после выписки в Москве не задерживайся. - И, прямо глядя
в расширившиеся от удивления голубые, слегка водянистые
глаза Бобби, продолжал: - Да-да, собирай по-быстрому манатки (what is
this?), бери билет на самолет и вали куда хочешь, пока тебя не
привлекли за наркоту. У нас и так с этим делом беда, молодежь совсем
распустилась, в школах бог знает что творится, а тут еще вы рыщете,
сами не зная зачем, девок наших портите. Они, глупые, о лучшей доле
мечтают, думают, с вами им подфартит, а ведь будет только хуже. Вы же,
буржуйские сынки, не о ком, кроме себя, не думаете, вам лишь бы кайф
словить - здесь или там, не важно.
- Я не буржуйский сынок, - обидчиво взъерошился
Бобби.
- Ладно-ладно, - сказал Кастор, приобнимая его
могучей дланью, - не имеет значения. Хочешь кайфовать -
поезжай на Гоа, сейчас многие туда дрейфуют, там вам и место. Море,
солнце, любо-дорого... А здесь тебе ловить нечего. Точно нечего! - И он
довольно крепко, до боли сжал плечо Бобби. - И не надейся, что все
обойдется. Не обойдется. Так что давай, дружище, выметайся, сам потом
благодарен будешь, что вовремя ноги унес. You see?
Бобби набычился, затянулся глубоко, с присвистом,
а выпуская дым как бы и кивнул.
- Ну вот и славно. - Кастор убрал руку с плеча
Бобби. - Мы и не сомневались, что ты парень смышленый, сообразишь что к
чему.
Сообразил ли Бобби? Но что он был оскорблен и
унижен, тут сомнения не было. Так с ним никогда еще не разговаривали,
хотя всякое бывало, даже и на родине. Чего-чего, а такого он от
Диоскуров не ожидал. Больше всего уязвляло, что с ним обращались как с
пацаном, а не с полноправным гражданином, за которым, между прочим,
стоит одно из самых влиятельных европейских государств. Пусть даже сам
он с ним не очень в ладах, с этим государством. Пусть даже оно до мозга
костей буржуазное. Но это государство, обратись к нему Бобби за
помощью, всегда его поддержит.
В конце концов, он не какой-нибудь там отморозок и
вполне честно зарабатывает себе на жизнь. Ему здесь нравится, у него
нормальные отношения с людьми, а ему вдруг "выметайся".
Все в нем кипело и бурлило, даже в животе, где
шов, заскреблось, похожее на боль, верней, отголосок боли, вроде той,
что прижала во время приступа. И вдруг пронзило, нет, не боль - мысль
пронзила: а если с ним что-то сделали не так, в смысле операции. Если...
Он осторожно подтянул край футболки и, наклонив
голову, внимательно обследовал обнаженный участок кожи, где виднелся
красноватый, еще воспаленный и не окончательно подживший шов. Ничего
особенного он там не обнаружил, но ему все равно было не по себе.
Вот и вся история. В какой стране теперь
обретается британский гражданин Бобби, где он борется с
буржуазностью и борется ли вообще, это нам неизвестно.
Евгений Шкловский
родился в Москве в 1954 году. Окончил филологический факультет МГУ им.
М. В. Ломоносова и аспирантуру факультета журналистики. Кандидат
филологических наук. Работал в "Литературной газете", в журналах
"Литературное обозрение" и "Стрелец", преподавал в Литературном
институте. С 1997 г. ведущий редактор в издательстве "Новое
литературное обозрение". Член Союза писателей (с 1990 г.). Печататься
начал в 1977 г. Публиковался в различных периодических изданиях. Автор
сборников прозы "Испытания" (1990), "Заложники" (1996), "Та страна"
(2000), "Фата-моргана"(2004), "Аквариум" (2008),
литературно-критических брошюр "Проза молодых: герои, проблемы,
конфликты" (1986), "Человек среди людей" (1987), "Грани гуманизма"
(1989), "Лицом к человеку" (1989), "Варлам Шаламов" (1991), а также
множества критических статей и рецензий. Произведения Шкловского
переведены на английский, венгерский, итальянский, немецкий,
французский, чешский языки.