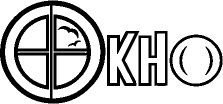
ШАМШАД АБДУЛЛАЕВ (ФЕРГАНА, УЗБЕКИСТАН)
ОДНО СТИХОТВОРЕНИЕ СЭМЮЭЛЯ БЕККЕТА
(ЭССЕ)
СЕН-ЛО
Вир будет виться под
другими тенями
неродившимися дрожать на
освещенном русле
и старый разум
покинутый духами
погрузится в руины.
1946
Перевод
Марии Попцовой
По всему видно, текст написан мгновенно. И дело не в том, что в
стихотворении словно заранее заложен симптом моментальности, а - в
конспиративной щедрости бесцветных владений, откуда выросла эта
маленькая поэма, в неиссякаемой укрытости чуткого отщепенства,
наделенного избытком наэлектризованных сцен медитативной
убедительности,- такое наперед знакомое поэту депрессивное убежище, в
котором он всегда пребывал со своей острой восприимчивостью вечно
надвигающейся кары за непонятную вину в его предыдущих воплощениях. Ни
болотно-слизистая, вязкая, расчетливая дублинская среда двадцатых годов
минувшего столетия, ни Лючия, ни отвращение странного
ирландца к собственным амбициям, ни война не служат здесь
настырным предвестием "Сен-Ло", чей тайный персонаж смутно походит на
бернхардовского Культерера, что гнёт тюремной власти вынужден был
покинуть ради более тревожного безвластия свободы, в которой крайне
трудно не принимать ничто за своё, как заметил Майкл Палмер в аллюзии
на элегический мираж "Орфей. Эвридика. Гермес". Тут слишком много
других миров, черпай сколько хочешь, - и трилогия в прозе, и
пьесы, и радиопостановки, и наброски о художниках, с которыми дружил, и
мирлитонады, и даже фильм "фильм". Этот крошечный
верлибр, напечатанный 24 июня 1946 года в "Айриш таймс", создан, скорее
всего, в апреле, на два месяца раньше своей
публикации. Пожалуй, возник он из-за
парадоксального упрямства и горького намерения невзрачного
наблюдателя - парировать и остудить энтузиазм цветущего восстановления,
умножающего излишек, "честной" безоценочностью и нейтральным
невмешательством в бесхозную, немую зримость, в увечную достоверность
выжатой, бескровной элементарности. Поодаль когито лежит под
обломками европейского пожара, и самообман стрельчатого визионерства
валяется среди плит рухнувшей готики после "Оверлорд". Так
что Сен-Ло и руины представляют собой явную пару, звучащую как
коррелят, как внешнее внутреннего внешнего внутреннего: одно вовсе не
противоречит другому и метонимически не прячется в нем, будучи тем же
предметом, которому оно противостоит или в котором
оно якобы скрыто карательной матрешкой ( осколки военного
крушения, допустим, в этой антиномии мстят городу за его
местоположение, - тем не менее, если что-то из того, что случилось или
осуществилось, интересует писателя, то в первую очередь как почерк и
следы небывшего, в котором читателю мерещится, наверно,
вещдок пакибытия, - как что-то, имевшее или имеющее эффект
непроисшедшего, а не только исчезнувшего). В принципе, минималистской
пылкости в "Сен-Ло" хватило всего лишь четырех строк, чтобы не
поддаться искушению не считаться с выучкой веры в разумные, вековые,
всеохватные смыслы, завернувшие однажды вслед войне старое, доброе
картезианство и надежное, давнее знание о родовой общности в окрестное
пепелище, где Безымянному суждено ( в усердии снова не родиться)
молкнуть в обилии глухой бессуетности. В Бриовере*, между
прочим, жил Жан Фоллен, меджнун
лаконичности без лоска, который вполне сносно умел задобрить
немногословием собственный голос, брезгующий даже слабой слышимостью в
тонких книжках, и который тоже, как секретарь Джойса, слишком поздно в
лирике нагрянул к молниеносной краткости, где основные открытия в
сыскных модернистских снах уже свершились от паундовского "На станции
метро" до "Границ любви" Жильбера-Леконта. Вероятно, в подобной поэтике
действует принцип - когда знаешь, говори мало, когда не знаешь, говори
много - либо какие-то эльфичные свойства самого ландшафта,
самой Нижней Нормандии велят глядящему соблюдать сдержанность и
скованность в речи. Вдобавок величие Беккета мешает сейчас нормальному
прочтению любых его вещей, включая стихотворные фрагменты, но когда
вспоминаешь, что "Сен-Ло" на пришибленном сгибе стылого побережья
напротив опаленных своей кажимостью четырнадцати мельниц сочинил в 1946
году один из малоизвестных гениев, коим кругом несть числа, водитель в
госпитале Ирландского Красного Креста, то все становится на свои места,
и поэзия начинает дышать чистым воздухом плодотворного и целительного
бесславия. Впрочем, Де Голль вроде бы наградил этого худощавого
затворника медалью "За отвагу", однако военный подвиг ничего не меняет
- Лазарю предстоит еще раз не появиться на свет, дабы всецело не
сгинуть. Отсюда, может статься, вызревают (наконец, С.Б. состарился в
собственных глазах, отгорел, едва ли годный по крайней мере
для маньеристского вихря и медовой версификации, - Данте, Вико, буря и
натиск отныне покоятся в прошлом, позади, в ровном блеске довоенной
эрудиции в отзвеневшем Тринити) склонность Неумершего не показывать
больше, чем таить, и его едкая безошибочность в самоумалении.
Посему в его миниатюре за счет маневра, бегущего эмфазы и акцентов,
достигается артикуляционная сухость, почти не шелохнувшаяся в близком
воздухе над водяными знаками блёклой просодии, - тем самым весь тулов
текста как бы знобит в костистом оцепенении, в скудном камлании
мглистого безлюдья. "Вир" (анаграмма скрадывает мутную реку) и "руины"
окатывают слух фрикативно-сонорной страховкой, - словно
пароль, словно оберег, защищающий читательскую интуицию от вещего эха
верленовских позывных для Второго фронта. К тому же в этом Vire will
wind вьется неслышный в атмосфере слепых крушений (но просигналенный
мембраной тихого ветерка), ничейный дискант абсурдной живучести чего-то
зыбкого, что не забыло просто течь к своему устью, к бухте Ве рубцами
реки, - правда, за боковым окном санитарной машины слабеющими рывками
по-прежнему мерцает черное солнце нормандской меланхолии, так и не
дождавшееся по весне сплошного истления бриоверских развалин.
Ангелы оставляют медиумное сознание, не прошедшее проверку на
прочность, и селятся в каком-нибудь ином теле, более податливом для
исполнения иррациональных приказов, а ты мешкаешь возле
каменьев бомбардировочной разрухи у береговой суши - смотришь на
польдеры и вспоминаешь фразу Андре Мальро, украшающую "Мёрфи"
венцом однострочной эпифании, тому, кто находится вне мира, нетрудно
найти своих, которых, кстати, в сторонке, в двадцатитысячной коммуне, в
этом городке рядом, овеваемом прежде терпкостью привала, с факелами не
обнаружишь в яркий полдень. Поэту в дальнейшем предстоит насыщать свой
отторгнутый высшими силами пустой череп выцветшей, скупой,
шершавой красотой гипнотично тусклой, беспросветной, тесной рутины: в
узком тупике нет лучшего выбора, чем
вознестись.
*Старое название
Сен-Ло.