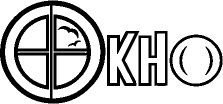От
переводчика
Олесь Ульяненко (Александр Ульянов) родился в 1962 году в городе Хороле
Полтавской области. Окончил Николаевское морское училище. Участник
боевых действий в Афганистане и Югославии. В 90-е годы - активный
участник украинского национально-освободительного движения "Рух". В
1997 году стал лауреатом малой Шевченковской премии за свой дебютный
роман "Сталинка", написанный в жанре нуар. Также лауреат премий
"Благовіст", "Сучасність" и др. В 2006 году подвергся резкой критике
московского патриархата русской православной церкви за роман "Знак
Саваофа". В 2009 году стал первым запрещенным писателем независимой
Украины: Национальная экспертная комиссия по морали объявила его роман
"Женщина его мечты" порнографическим, и книга была изъята из магазинов.
После девятимесячного судебного разбирательства запрещение было снято.
Систематически получал угрозы по телефону. В 2010 году был найден
мертвым в своей квартире при подозрительных обстоятельствах. Следствие
проведено не было. В память о писателе основана Международная
литературная премия имени Олеся Ульяненко.
Яйца
динозавра
Вот что поведал Гаврило Кузьмук по прозвищу Горилла погожим
августовским днем, под щедрым масляным солнцем, возле площадки, где
коротали остаток жизни пенсионеры, скрипели качелями дети, а влюбленные
темными загадочными тенями шугали в черные пасти деревянных тигров,
немецких танков, чтобы справить свою скотскую нужду практически на
глазах переохлажденных и гневливых ветеранов. Итак, этим днем - с
солнцем, с ветром, с той головокружительной предосенней надеждой, - он
и рассказывал, засунув руки в карманы потертых вельветовых штанов: Вот
так он стоял, значит, рассказывал:
- Вот тогда летом мне поперло счастье! Сижу я возле зоопарка. Тоска
смертная. Машины вжикают, солнце, житуха катит во всю, значит, а у тебя
в кармане гуляет ветер. Девочки морожено грызут. Трещат сороками мимо
тебя, чем гордость мужескую унижают. Нет чувства, курвит помалу,
безнадега, значит, но по всему видать, что прямо-таки выходит, аж
пищит, что ты лишний человек в этом мире. Тошно. Никакого чувства и
романтики.
Голый прагматизм и прочая фигня. Жизнь и кайф проходят, как кино...
Васька Блоха потянул воздух, отпил из бутылки пива, кося глазом на
соседа Пепу в надежде, что тот прозевает свою очередь за бутылкой,
пущенной по кругу, но подстрекатель, дебошир и местный интеллектуал
Пепа был всегда в своем уме, поэтому, стекленея взглядом, протянул руку
за положенным, дабы нагло ублажить свое ненасытное нутро. И они
сердито, в один голос, сказали:
- Кароче.
По дворовому этикету следовало обидеться, поэтому Гаврила сделал круг
по детской площадке, сопя носом, сплевывая часто под ноги, оттягивая
карманы, и только потом вернулся на место. И сказал:
- Ну, блин, вам хоть ничо не рассказуй.
Все присутствующие сделали непроницаемые артистические физиономии. Пепа
даже для страху или на всякий случай, а может, для фасона и понту,
матюкнулся. Пенсионеры поподнимали головы, готовые осудить, проклясть,
но не попросить, чтобы эта кучка вонючих строителей наконец
успокоилась, а скорей они были уверены в том, что зло, связанное с этой
невычесанной когутней, совсем малозначимое, куда меньше, чем с молодыми
выродками, которые затягивают долговязых девиц в деревянных львов и
тигров и возвращаются оттуда со скорбным туманящимся взглядом. Все
присутствующие, даже Пепа, сделали благопристойную мину. Мораль
вползает на житейскую авансцену лишь тогда, когда ты сам не хочешь или
неспособен что-то сделать, причины - это лишь следствие воспитания. А
потому обойденные всегда завидуют вельможным. Такая себе банальность. А
потому выходит:
- Скоты, им чо, негде пистон вставить? Вот у нас было, это да-а-а...
Валяй дальше, Гаврила. Тока не бреши, а то не дадим пива.
Гаврила сделал еще круг, уверенный в себе и победе собственного
интеллекта, тая обиду, однако внешне выставляя гонор - так он видел,
так он подметил и заучил, как делали все знаменитости по телевидению и
в кино. Тогда он подступился, взял бутылку теплого пива из рук Павы и
нараспев, увлекаясь, продолжал:
- То есть сижу, курю, когда подходят ко мне двое. Интеллигенты. А один
и говорит, такой в очках, похожий на профессора, и бузюкает, что
проводят они очень важный эксперимент, биологический, значит. Если я
хочу заработать денег, а еще... - Гаврила со значением поднял палец, давя
несколько минут фасон, - ...послужить государству, то пускай пойдет с
ними, то есть я пойду с ними, напишу маляву, и они проведут, знамо,
свой лядский эксперимент. И тогда мы пошли. Не долго, потому что меня,
знаете, лохонуть очень сложно. Мы не зашли дальше зоопарка. Ничего
особенного, кроме хаты, смердевшей, как конюшня в колхозе. - Пава на
этих словах, как и всякий городской житель, сделал лицо, замахал широко
растопыренной ладонью, а Гаврила продолжал, восхищенно ловя собственные
слова:
- Значит, гляжу, сидит передо мной в клетке горилла. Здоровенная, как
будка. Больше, чем памятник. Она женщина, значит. Мне наскоро
объяснили. А потом шмяк промеж глаз: а не попробуете с этой дамой
совокупиться? Я туды твою, показываю ему возле височка, значит, что ты
того, давно с Павловки юзонул, а, братан? А они наперебой
пенятся, мол, сделаем укол, и все будет на мази. Ширанули они меня
после долгой болтовни по вене. Темно сделалось, а как очухался, то сижу
голый перед зоопарком, под тем вот чугунным быком, а рот весь забит
шерстью, в руках шерсть, на груди шерсть. Таки отделал, думаю,
обезьяну. А очкарик откуда-то возникает, как адвокат дьявола, говорит,
протягивая пачку гринов, что вы таки хорошо, значит я, поработали, и их
Люсечка довольна полностью, а вы, то есть я, долг свой перед страной и
обществом выполнили, получите вознаграждение.
Вот с тех пор, говорят, уличная шантрапа вместе с соседями начали
называть Гаврилу Гориллою, и когда случалось остановиться возле аптеки
или какого-либо другого медицинского учреждения, то все дико и
безудержно ржали, интересуясь, куда и по сколько он продает своих детей
или какую морковку они грызут. Только Горилла делал красивую,
артистическую мину, значит, обижался. Потом они пили пиво, а Горилла
рассказывал очередную историю, которой никто не хотел верить, но под
конец все соглашались, что подобное может и должно быть в таком
чудесном обществе, как наше. Говорят, последнее и привело к
нежелательному продолжению извилистых похождений Гаврилы Кузьмука по
прозвищу Горилла. Он даже не обижался, что его так зовут. Иной раз,
правда, случались конфузы, когда ноги спьяну заносили в зоопарк. Злой
люд смеялся, что Гаврила разыскивает по клеткам своих детей.
Достопамятным фиолетовым вечером маменька прятали мои глаза от двух
шимпанзе или горилл, или гамадрилов, или... словом, от слишком
откровенного интима, которым обезьяны занимались, глядя друг на друга,
а маменька кричали, закрывая мне руками глаза, даже не догадываясь, что
этим подтверждают великую идею бессмертного Фройда. История совсем о
другом, да только это часто напоминало мне Гаврилу.
А вот что нам рассказала Нинка Кочеткова, та, что проживала в
кооперативном доме на Площади Победы - милицейская вдова, пышногрудая
блондинка. Она видела в тот полдень, как с юга задымленной автострады
поднимался, точно кто хотел взлететь в воздух, черным змеем кортеж
японского премьера. Шухер поднялся довольно сильный, так что Нинка даже
предположила, что началась то ли тотальная мобилизация, то ли какая
пакость еще, о чем ей часто рассказывал потомственный алкоголик Хоменко
перед тем, как обмануть в который раз несчастную вдову насчет женитьбы.
В тот день, когда кортеж с грохотом и помпой катился по
пропаренной зноем автостраде, а потерявшие интерес к политической и
общественной жизни граждане тупо констатировали эту пышность, потухшими
рыбьими взглядами свидетельствуя перед светом равнодушие и
инфантильность, как бы сказал философ, фрагментарность своего сучьего
существования, то есть в тот день вдоль автострады с двумя ведрами,
наполненными то ли грибами, то ли яйцами, по периметру двигался
Горилла, или Гаврила Кузьмук. Эта маленькая деталь зафиксировалась
слишком поздно, чтобы что-то остановить в этой истории, хотя смысла в
этом тоже никакого, и все, как водится, случается к лучшему. Итак ровно
в полдень, когда отгрохотала японская делегация, разговоры на Площади
Победы снова захлюпали в привычном русле, вяло и медленно, сплошь нудно
и неромантично, то в тот день Пепа заглянул к Горилле, который не пошел
с какого-то дива на работу.
- Ты чо? - Только и сказал Пепа.
- А я ничо, - холодно и спокойно отрезал Горилла, наминая с гигантской
сковородки, что в западных регионах называют патэльней, небывалых
размеров яичницу. Если бы Пепа разбирался в людях, то, повторимся,
ничего бы, возможно, не случилось. Но взгляд у него, то есть у Пепы,
был блудливым и лихим. Словом, у него глаза стали большими, как сливы
или днища стаканов.
- Что это, мужик? - Спросил Пепа.
- Яйца - ответил Гаврила и, засунув ложку поглубже в рот, проглотил
яичницу, отпил водички и солидно, по-светски, продолжил трапезу.
- Чо за хреновина в углу?.. Да-а-а-а... И на работу надо, - Пепа всегда
так говорил, он все стеснялся назвать как-то Гаврилу.
- Какая, на хрен, работа. Сейчас мне не до работы, - важно, с долей
обреченности и артистизма ответил Гаврила. - У меня тут такие дела.
Ага. Ага.
Пепа не отрывал взгляда от гигантских яиц, раскроенных пополам,
сложенных в углу возле ведер.
- То я свиньям, - констатировал Гаврила.
- Понимаю, что свиньям... Да, да. Но чо за херня в углу? Да. Да.
-Яйца, - сказал Гаврила.
- Да, яйца, - закивал головой Пепа, который хотел бы натянуть отсюда,
однако врожденное любопытство вынуждало его торчать на одном и том же
месте, точно кто держал его за ноги, а голова просилась неизвестно куда.
- Динозавровые яйца. Ага. Динозавровые яйца. - Гаврила запустил ложку в
рот, смачно проглотил, запил минералочкой, даже не удостоив взглядом
Пепу.
- Чего? - Сказал Пепа, ступив шаг вперед, то ли к углу, где
действительно лежали располовиненные гигантские яйца, то ли просто
находился в неприятной прострации и не знал, куда деть ноги,
непослушные голове.
- Яйца динозавра. Вчера мне упал на гараж.
- Кто упал?
- Динозавр.
- Чо ты это? Да-а-а... Это... Да-а-а-а...
В этот момент Пепе удалось юзонуть. Бежал он, говорят, четыре квартала,
потом остановился, отхекался и решил добропорядочным гражданином
вернуться на работу. Гаврила уже доедал яичницу, когда в дверную
амбразуру просунулось -надцать испуганных, возбужденных и
любопытных рож. Бригадир, с которым Гаврила работал на стройке, скромно
глядел сзади, давая возможность бригаде лицезреть чудо
вблизи.
- Чо это? - Наконец сподобился бригадир, тыча пальцем на огромные яйца,
лежавшие в углу.
- Ты чо, слепой? Ага. Яйца. Динозавр упал на гараж, проломал крышу.
Сейчас сидит на привязи и несет мне яйца, - констатировал Гаврила
Кузьмук. Рожи за дверью загоготали, вытянулись пирамидой.
- А можно попробувать? - Спросил бригадир.
- Дорого обойдется, - отметил Гаврила.
- Скока? - Логически завершил завязку переговоров бригадир, держась
спиной поближе к Пепе.
- Ну, ага, за пробу по десять гривён с носа. Деликатес, значит,
исторический рудимент, значит, - разумно стал загружать Гаврило.
- Ну, да, - согласился бригадир, - а самого, этого, производителя можно
посмотреть?
- Пятьдесят гривён с носа и ни на копейку меньше.
Рожи, то есть народ, тревожно загудели. Пирамида угрожающе растянулась.
- Я, да-а-а, всегда знал, что ты... - Начал Пепа, опять споткнулся на
прозвище, но собрался с духом и выдал: - что ты сволочуга и крохобор.
Гаврила только шмыгнул носом и сказал:
- Пролетарии невычесанные, ага... Жлобитесь. Ага, сам историчный хвакт
того, что ничего для вас не нужно. Даже культура.
Народ задумался. О культуре они знали одно: надо вовремя мыть руки,
подтирать задницу, не матюкаться в гостях, правильно ставить запятые в
жалобах, любить жену и детей, уступать место пожилым людям в транспорте
и так далее. О динозаврах и культуре никто ничего не знал. Это
настораживало, это доводило их бытие до тупого абсурда. И они решили
чуть-чуть погодя дать по пятьдесят гривен, чтобы лицезреть чудо. Однако
национальная прагматичность, считайте, черта характера, взяла свое.
Поэтому сначала строители решили скинуться по десять гривен, чтобы
попробовать, точнее, пощупать гигантские динозавровы яйца. Гаврила
сидел у самой двери с большой и толстой тетрадью, куда записывал ФИО,
уплаченные суммы, даже должности посетителей, чтобы кто-нибудь, чего
доброго, нахально не пролез без очереди или безлимитно, на дурняк, по
знакомству, чего Гаврила Кузьмук никак не мог стерпеть. Пепа попробовал
было выклянчить на шару ложечку яичницы, но справедливый,
великосветский и при этом кристально честный Гаврила пресек все попытки
нарушить уже утвержденный уговор. А на третий день, отработав яичное
шоу, исчез бесследно. Возбужденное и заинтригованное общество стало
проявлять признаки беспокойства и неудовольствия. Им хотелось чуда, но
чудо на удивление нагло и тавтологически вильнуло боком, подманило всех
их, охваченных иллюзией большого праздника, и исчезло. Но один человек,
то есть Пепа, не имел веры, пытаясь доколупаться до истины, поскольку
его любовница упрямо кляла Гаврила, наверно потому что он третий год
избегал ее квартиры, а розовощекий, смачный, как помидор, Гаврила
всегда имел успех у толстых шулявских молодиц, молоденьких школьниц,
что подторговывали летними каникулярными днями, овитые и укутанные
серебристой мечтой, далекие и волшебные, молодые и свежие, а главное -
дурные. Там-то и пасся Гаврила Кузьмук, даже не мешали его
обезьяньи мытарства, это скорей придавало форсу. Стало быть, Пепа
первым распустил слух, что Гаврила прожигает динозавровые деньги в
ресторане со школьницами. Так что когда все утихло, и Гаврила появился,
весь из себя умный и красивый, уже без денег, то сообщество возжаждало
настоящего чуда. А именно динозавра, упавшего и проломившего крышу в
гараже Гаврилы Кузьмука.
Гаврила долго отмалчивался и, отдать должное, сопротивлялся настырности
своих коллег-строителей, как только позволяли совесть и воспитание. Но
строительная бригада потихоньку возбуждалась, приобретала угрожающие
черты, которые цивилизованных и светских людей превращают в толпу, а та
уж, в свою очередь, может быстро устроить бузу, если не
настоящую революцию. И тогда Гаврила по прозвищу Горилла, согласился.
Он взял цену пятьдесят гривен с носа, констатировав факт, что динозавр
- живность, а потому деньги необходимы на корм, значит, для питания
ценного исторического реликта. Бригада на три дня успокоилась, но после
очередных посиделок они хором завалили к Гавриле, вынудив беднягу
вытащить толстую тетрадь и записать всех поименно, по рангу, по
количеству заработанных денег, поквартально, порайонно, по-соседски,
по-народному, и прочее, согласно давнему правилу, что бумага должна
засвидетельствовать историчность, что есть важность события.
В чем никто не сомневался. Субсидий, то есть вспомогательных
ассигнований, льготных квот Гаврила не предусматривал. Потому-то
коллеги и стали тем фактором, что сыграл главную, если не ключевую роль
в этой истории.
И вот, наконец, взволнованная толпа, верней, еще пока бригада горстроя,
повалила в скопление металлических гаражей, безлико жавшихся к вонючей
речке, прозывавшейся легендарным, почти обаятельным именем Лыбедь, но
может и Шулявка - за давностью лет географическое и топографическое
место событий имеет несколько версий. Поднялись пыль и крик на два
квартала. Рабочие выстраивались, как на первомайский митинг. Они несли
праздничные свои лица к чуду, виденному в школьных учебниках, а сейчас
это могло действительно случиться почти как с иконой Николая Второго.
Они пылили навстречу празднику - кто расспрашивал, ест ли динозавр из
рук, отзывается ли на кличку и есть ли у него имя, зарегистрирован ли
динозавр от бешенства, какой намордник лучше, сколько в сутки его надо
выгуливать и тому подобное, разные пустяковые хлопоты, которые
действительно мешают жить. За сто метров Гаврила остановил толпу рукой,
деловито засунул руки в карманы и сказал:
- Пойду его подготовлю, а то испугается. Ага.
Пепа запротестовал и сказал, что не верит, а то Гаврила сбежит вместе с
динозавром или задумал что недоброе. Пепа ревновал к своей зазнобе, так
что никто почти не слушал. И Пепа затаил зло и обиду на Гаврила. Толпа
празднично закипала и начинала бурлить, такое видели прошлый
раз, когда откуда-то приперли икону Николая Второго, и народ ложился
прямо под колеса электричек. Это рассказывал Пепа, кипя
обидой на Гаврилу и на толпу. Наконец, когда все заметно скисли, явился
Гаврила и велел идти за ним. Все тихо, на цыпочках тронулись.
- Шо это? - Первым резонно спросил Пепа, ища взором уже не динозавра, а
самого Гаврила, которого уже и след простыл.
Все было нормально: гараж с проломленной крышей, вонища, как в
свинарнике, и зверь, испуганно скуливший на коровьей привязи в темном
углу. Когда зверя попробовали вытащить, он зарычал, стал упираться.
Наконец смельчаки включили свет. Животное, - а им оказался бродячий пес
по кличке Джек Пот, инфант и лодырь, на которого надели морские ласты,
на спину прикрутили крылья, какие цепляют детям, играющим на Рождество
ангелочков или эльфов, а хвост его венчала зеленая резиновая грива
крокодила Гены, на глазах - поролоновые шарики, какими родители балуют
детвору, позволяя цеплять на нос и изображать разных там олегов
поповых, чиполлин и пиноккио, - животное это подняло морду и заскулило
на дырку в потолке. Джек Пот знал, что сейчас его будут бить в
соответствии с собачьей долей, раньше, чем благодетеля, судя по всему,
закормившего псину жареными яйцами, и в часы полного блаженства пес
наглел, воображая, что попал в собачий рай. Все это, видимо, прошло.
- Да-а-а. Гы-гы, - только и сказал Пепа, потирая руки. Джек Пот
заскулил, махая зеленым хвостом, останками резинового Гены. Первые
удары пес принял стойко.
Гаврилу поймали ровно через месяц, пьяного, одинокого и несчастного. Он
кормил рыбной котлетой Джека Пота с разбитой мордой и пытался что-то
ему рассказать. Джек Пот поскуливал, потом, завидев курящуюся пыль,
первым сообразил и дал чесу, покинув своего благодетеля на справедливый
гнев толпы. Били Гаврилу долго и нудно. Били за погибшие иллюзии, за
деньги, за все. Его трижды стаскивали с седьмого этажа за ноги, все
никак не проявляя решимости шугонуть сволочару оттуда вниз головой.
Пепа конструктивно предложил линчевать негодника. Гаврила
стоял с веревкой на шее на родной стройплощадке и плакал, но гордо не
просился.
- Идиоты, вас... Мать вашу тоже... И всех вас... Ублюдки...
Потом его долго сшивали в районной больнице. А потом хирург, долговязый
юнец, больше напоминающий слесаря, подошел к нему, все повторяя:
"Хе-хе, ну... дают ослы, во уморина". И спросил хирург у Гаврилы по
прозвищу Горилла:
- Я понимаю с собакой, но яйца. Как же с яйцами-то вышло? Может,
действительно... это, правда, динозавровы?
Гаврила, страждущий на одре, поднялся духом и объяснил:
- Видели вы вот такие продолговатые плафоны на уличных фонарях? Ага.
Вот так и вышло. Взял я те плафоны, покрасил, прикупил ведерко яичек, с
ночь не поспал, отделяя белки от желтков. Сварил это дело, да так и
вышло, что даже ученые не отличат. Вот и все. А с псиной придумалось
быстро. Осязание, порыв, одним словом.
Хирург тупо и придирчиво оглядел перебинтованного, покалеченного
Гаврилу, снова полез с разговорчиками:
- А для чего это? Какая с этого польза? Абсурд, - развел пальцами,
точно пытаясь поймать воздух. - Дурная трата времени. Не понимаю.
- Ага, оно-то так. Но хоть пожил. Две тысячи гривен на дороге не
валяются. Я так никогда не жил и не поживу больше, доктор. Ага.
- Думаю, что еще один такой выбрык, и вам гарантировано другое место.
Ага, - передразнил его хирург и вышел, удивляясь все больше народной
мудрости. Гаврила лежал на кровати и думал о Джеке Поте и предателе
Пепе. И, конечно, о справедливости.
- Ага, доктор, а откуда вы все знаете? Значит, таки пожил. Ага. Пепа
удавится. Ага. Кто еще дурак. Ага. - сказал Гаврила пустой двери.
На улице, под окнами, скулил Джек Пот. И достославный Гаврила
наконец-то спокойно заснул. У каждого своя вершина. Я тоже так думаю.
Приказ
Он ясно услышал короткий недолгий звук, глухой. Что-то вроде
"фра-уф-к-с-с" дернулось в девственном воздухе. Прапорщик провел
шероховатым, задубевшим за ночь от выпитого языком по пересохшим губам,
скорее угадал его, потому что как раз было время. Шевельнулся в
слизкой, спертой духотой тьме, в затылок пахнуло горячей
волной, боль царапнула до макушки, запульсировала в висках,
пробежала по размякшим мышцам, ткнула в кончики пальцев. По грохоту
каблуков о выпеченную, втрамбованную землю, по вспугнутым одиноким
крикам команды возле колючей проволоки, уяснил, что это штабная машина,
а не бэтээр - машина с бронированными дверцами и открытым верхом для
стрельбы.
Отклонив масксетку, он хотел что-то разглядеть. Не увидел, однако,
ничего. Прямоугольный кус освещенного пространства срезал косяк
мошкары, ополыневшее небо выхватило крутую, выставленную скулу, куцую
шею с надутыми артериями; крутанув пустую бутылку, швырнул после этого
ее в угол. Раздул ноздри - от кислого, терпкого запаха своего тела и
пота, щелкнул просмальцованной гимнастеркой. Солнце из-за низких, с
приплюснутыми верхушками гор размазывало вихри. Небо набиралось ржавого
цвета. Через минуту, фыркнув, погнав низом смрад бензиновых испарений,
треская о битый щебень шинами и теряя эхо промеж колючей проволоки и
рядов модулей, откатило авто.
Даже сейчас Диденко не увидел авто. Только по тому, как бряцнула дверь,
и по теням, удлинявшимся с каждым мигом, он догадался, что идут к нему.
Так он сидел, как будто бы паралитик, не меняя позы. Густо отрыгнул
перегаром; скрипнула дверь, вырезала светлый квадрат, а на нем -
черную, длинную, сгорбленную фигуру. За ней - другая, меньшая, все
пыталась проскользнуть перед первой. Сквозь светлые прорехи Диденко
увидел, как под забором прошли двое - тени коротко метнулись по
облущенным доскам, поползли по стенам модулей; за ними, с автоматами,
еще двое - сонные и кислоглазые. Эт, мать вашу - резануло в голове.
Потухло.
Человек, стоявший перед ним, был близорук. Без очков, слегка
нагловатый; больше перепуганный, чем наглый. Не таким его Диденко
помнил год назад, когда они ходили на Джалалабад. Какую-то минуту тот
прощупывал бесцветным взглядом тьму, и фигура его ртутью растекалась на
квадрате света.
- Есть тут кто?
- А кого тебе надо, лейтенант?
- Вы Диденко?
- Да вродь.
В модуле закопошилось, масксетка упала на порог, растянулась ладонью;
забулькала вода в горловине чайника, крякнуло; лейтенант опустил,
поднял голову, услышал глухое, довольное чмоканье:
- М-да-да, чаю ни хрена не осталось. Ну, давай уже бумажку.
Коричневая от загара рука, обтыканная колючими волосьями, высунулась на
свет по самый локоть.
- Вот бумага... приказ.
Лейтенант вступил в помещение, поднял масксетку, бросил в угол, втащил
запах выстиранной, выглаженной униформы с духом талька и одеколона;
разглядел скуластое, поклеванное, рябое рубленое диденково лицо с
полными, синими обвислыми губами; глаза навыкате - два шара серо,
осоловело мигнули на него, и лейтенант добавил, составив ровно пятки, а
носки врозь:
- Тут все... вы знаете... Да и чаю бы не помешало... И еще, Диденко, чем
скорей это сделаете, тем лучше.
- Для кого? - Прапорщик нагнулся, шея надулась кровью, положил перед
собой приказ, хлопнул ладонью, широкой мозолистой, по бумажке,
разравнивая загнутые вверх края документа. - Вы что, подтирались им?
Гы-гы.
Солнце забилось в раздвоенную верхушку скалы - тени затрепыхались,
сжались резиновыми мячами, поменяли направление, похолодели. Глаза
лейтенанта набежали влагой, в зрачках посыльного плавало окно модуля.
Затянул мулла в небо - второй раз за сегодня, первую молитву Диденко
прозевал. Где-то поблизости подтявкнул пес, протяжно и пронзительно.
Прогнав мошкару, обтерши капельки пота со лба, Диденко задрал
квадратный, с синими порезами, подбородок, поросший двухдневной серой
щетиной; длинные ресницы закрыли выкаченные глаза:
- Мать его, этого муллу. Когда-то гранатометом бабахну. Да, а чаю нет,
в дукан надо. На складе шиш.
Он все старательно разглаживал круглыми, потрескавшимися пятернями с
облущенными, почернелыми от ударов ногтями бумажку. Короткий
затхлый сквозняк шевелил на голове вихры. Узловатая диденкова рука
поднялась, погладила макушку:
- Молодые они еще, литер, пацаны... Да-а-а. А тут такое дело. Да-а-а.
Нечего трогать того стралея, я его еще по Союзу знаю. Никто не думал,
что не выдержит и подо... умрет. Они таки перебрали, правда. Детвора, и
злые, а это смекни, литер, страшно, когда молодой и злой. Ну, так мы
все для них шакалы - шакалы и точка. Война имеет не одну сторону,
литер. Сколько живу, об этом думаю. Когда у Берии служил. И при этих.
Да-а-а... Чаю б, да-а.
Лейтенант присел на нары, на краешек, поднял острые колени - сапоги
заскрипели, луч пропек замусоленную раму, упал на носки, засветив
тонкий слой рыжей пыли; улыбка разрубала лицо. В приоткрытую
дверь просунул голову пес с белой мордой и белыми кольцами вокруг глаз.
- Цу-цу-цуцу, - позвал лейтенант. Мулла завыл в небо, и пес, подобравши
хвост, потрусил вниз, пронзительно кроя воздух тявканьем.
- Я его отобрал у бойцов. Суки, откармливали на шашлык. Пес хоть и
глупый, но жалко; брешет, куда покажешь. Глупый пес. А жалко.
Диденко стоял посреди модуля, натягивал штаны, пытаясь вобрать пузо.
Солнце вскарабкалось на верхушку скалы, заливало красным, и видно было
синюю долину с зеленью грядок, заросли моркови. Пятнами, в сторонке,
лежало несколько дувалов.
- Нам, Диденко, вот что, нужно забрать старлея. - Лейтенант натянул
очки, поправив пальцем. Солнце желтыми шариками запрыгало на линзах.
- Заберешь. Он мне не нужен. Зачем он мне. Дам тебе бумагу, если
хочешь, или пойди к полкану, мне обрыдло возиться с этим всем. Каждый
день талдычат о конце, а толку никакого. Скорей уж нам, литер, капут.
Да-а-а, ни конца, ни краю. Как при Сталине говорили: конец, и все
верили и знали, что конец. Так оно было. Не иначе было. Да-а-а.
Выходя, Диденко посмотрел на вросший в землю свекольного цвета
контейнер, стоявший по обе стороны колючей изгороди. В прорубленном
наискось окне полметра на полметра, загроможденном двумя накрест
арматуринами, вынырнуло лицо - небритое, бледное, побитое зеленой
патиной бессонницы, с белым пушком на верхней губе; отклонилось, и на
него упала черная тень от арматуры, упала на лоб, и лейтенант хрустнул
сзади косточками пальцев, скрипнул зубами. Диденко услышал, но не
обернулся - тяжело дыша, позыркивая краем глаза на контейнер, спустился
к продолговатому прямоугольному строению, от давности перекосившемуся
налево.
- Что это? Морг? - вставил посыльный.
- Е-э-н... - вот было все, что вышло у Диденко.
Они остановились возле ямы. Диденко, подобравши пузо, присел на край,
сложил на коленях руки. Брезентину поддувал ветер, он доносил
тошнотворный, едкий запах формалина и хлорки. Диденко откинул край,
заглянул:
- Да-а-а, жара эти дни, жара страшная. Значит, полезайте и ищите, я его
биркой пометил, а то пораспухали все. Там трое. Тот, что с краю лежит,
старлей, а те - салаги, позавчера на мине подорвались. Да-а-а,
забирайте...
Из ямы шел сладкий, тяжелый дух, прорывался сквозь формалин. Лейтенант
зажал ноздри двумя белыми холеными тонкими пальцами, лоб взмок;
стеклышки на очках побила влага.
- Да-а-а. Сегодня не успею.
- Ты о чем? - Лейтенант сбился на "ты", не отпускал пальцы, сжимал нос,
прямо аж кончик покраснел, наблюдал, как посыльный отхаркивается,
сплевывает, матюкается, то и дело подвывает, похлопывая по бедрам, как
на морозе, и вытаскивает полиэтиленовый тюк с покойником.
- Чего они не поделили, Диденко?
- Хрен их знает. - Его мутило, и он сидел на корточках, вперивши взгляд
в край ямы, где ветер шелестел колючкой. - Бухали вместе. Вам бы там, в
штабе, сперва разобраться бы, а потом отдавать такие приказы.
- Делай свое дело, Диденко. Иначе сам знаешь... А все кончится скоро, я
тебе как земляку говорю.
- Я что? Я ничего. Только завтра, как и положено, на рассвете. А то
нельзя, не положено.
- Ну гляди. Я буду в четыре.
По дороге Диденко упал на четвереньки и блевал желчью. Возле прапорщика
бегал пес, гавкал, махая хвостом, припадал на передние лапы, клал
голову, прыгал, вздымая пыль. Диденко отогнал его, рыгнул еще раз,
поднялся и подался по склону до столовой. В столовой он сел за длинный
стол, обитый клеенкой, вперился в крохотное окно - в горах тихо, три
дня не стреляют, иногда прошлепают одинокие выстрелы, никого не
пугают. А там далеко, в полку, надумывают что-то, выжидают.
Он подумал о лейтенанте, как тот зажимал пальцами ноздри, об улыбке,
потом о завтрашнем дне - Диденко снова затошнило, заурчало в животе,
горькая слюна подкатилась к горлу, и он выблевал под ноги.
Солнце вскарабкалось вверх - белый раскаленный шар затрепетал в зените.
Орлиный клекот над тихими палатками, над комендантским лагерем завис и
долго звенел. Диденко зашел в кухню. Женщина сидела на перевернутом
термосе и чистила картошку. Он зашел тихо, чтоб она не
заметила. Из-под грязного халата выбивалось платье с белыми цветами на
красном. Левая нога заголена, округлая и белая, так что видны синие
прожилки. Когда женщина повернула лицо, затемненное металлическим
рукавом воздухозаборника, Диденко попробовал улыбнуться.
- Быстренько закончу, и пойдем, - сказала.
- Я не спешу. Да-а, пусть.
Он поглядел на нее в спину, проведя шарами глаз по мощной ягодице,
шлепнул потрескавшейся ладонью. Женщина обернулась:
- Не мешай. Скоро закончу. Снова пьянствовал целую ночь...
- Работа такая...
- Ну, ничего...
Он сидел возле женщины, вдыхал ноздрями картофельный дух, крошил краюху
хлеба, улыбался про себя: если им придется встретиться после войны, все
будет по-другому - не молодой уже, старость и водка, и служба такая,
что волком вой, но надо делать. Оно-то служба и незаметная, только бы
меньше кто знал, а то проведает, чума, и ненароком как бы ляпнет что-то
- и поймешь все дела эти. Да-а... Он погладил женщину по ягодице, та
виновато улыбнулась как-то. Солнце размазывало тени по полу,
запрыгало в зеленых женских глазах:
- Ох, иди уже, я приду к тебе.
Диденко наморщил лоб:
- Ты того, выпить чего-то принеси. Хреново навеки. Да-а-а... И завтра
тяжелый день.
Он двинулся по дороге: мимо контейнера, мимо деревянной вышки. Глянул
на длинный, прямоугольный, точно вагон, сарай - когда-то декханскую
бойню. Солнце торчало в зените. Он залез в модуль и упал на нары.
Тошнота отступила, солнце кресало по раме, и Диденко, хрустнувши
позвонком, крепко заснул, напоследок подумав: "Ничего, оно как зуб
вырвать, сперва больно, а потом ничего".
Женщина пришла, когда солнце красно багрило горы, духота бессильно
спадала, и холод сходил в долину. Диденко поднял голову. Пока поднимал,
слушал, как трещат мышцы затылка. Размазавши холодный липкий пот,
поглядел в окно. В горах постреливало: глухие удары дэшэка чередовались
с короткими автоматными очередями. Это длилось какую-то минуту и
напоминало вспышки молний. Молодые бойцы смотрят на то, что похоже на
зарницы, желтые, невыразительные на окнах модулей и в горах. Но это так
мало напоминает молнию, и оттого новичкам не по себе. А поздней
пробирает тошным страхом, после приходит настоящий смысл. Диденко
подумал об этом, щелкнул языком:
- Боже мой, хочется домой, Вася, ты б только знал...
- Да-а-а. Завести бы хозяйство, - Диденко погладил ей колено.
Ветер полоснул песком по раме, зашебуршил так, словно кто полил водой.
Диденко расстегнул ширинку, задрал платье женщине и повалил на нары:
- Ну, ну, давай, а то мне противно.
Посопел в темноте, повозился, откинулся на спину:
- Да, Маша, нечего не выходит, постарел. Да-аа, пусть потом.
Солнечный луч вырвал, вычертил лупатый глаз, налитый кровью. Женщина
встала, одернула платье, положила руку прапорщику на голову. Диденко
содрогнулся. Вобрал голову в плечи.
- Ничего, Вася, ничего. Вот похмелишься.
Она раскроила белую, до золотого припеченную по краям, с пылу с жару
хлебину, откупорила бутылку боковым зубом. Да-а, если подумать, то все
в порядке, путем. Или никто не делал такого когда-то давно? И что он
видел? И зачем обо всем этом думать? Нет, лучше думать, тогда под утро
все выйдет на норму, обретет положенные формы, и как ничего не бывало.
Надо кому-то делать - кто, как не мы, старики, что спасли когда-то мир
и сейчас спасаем? Али здесь что не то? Да, литер, вы обязательно
проиграете, и мы напозоримся с вами, и вся страна, как пить дать,
проиграет, да-а, смерть такая штука, если ты с ней столкнулся, то
постоянно маешься с ней; сатана, когда он научился вот так думать?
Да-а, вот баба с круглым задом, скоро дембель, он оторвал свое и будет
выращивать картошку и капусту.
Водка теплая, тошная на вкус, сперва схватывает дыхание, а потом хорошо:
- Из Союза кто приехал, да-а-а?!
Маша шевельнулась в темноте, и чувствительные диденковы ноздри уловили
испарения женского тела.
- Неа, старые запасы.
Да-да, лучше подумать об этом, думать, пить легонько казеночку, и оно
встанет не свои места, как в молодости, когда он носил синее с начесом
галифе; да-а, молодым разрешали у нас, а у них наоборот, но не наша
вина, а вот таких очкастых литеров, молокососня, и скажу тебе,
всполошились они, да-а, такого отродясь не было, все на материк, а тут
птица такая...
- Я его знал, этого старлея.
Женщина подняла голову, включила фонарь, взгляд ее завис между Диденко
и окном:
- И что это значит? Пацанов на материк?
Диденко сначала не ответил, отрыгнул сладко, намазал на краюху кусок
свиной тушенки.
- Бог его знает... Да-а, только Бог. Вот говорят, нет его, но знаешь,
Маша, что-то есть...
Женщина выпила из кружки, и ее глаза стали двумя желтыми озерцами. Она
не старше тридцати и вольнонаемная. Он отбил ее у зампотылу - тот
больше предпочитал мальчиков; поговаривали, что привык на Кубе. Да-а,
Куба, сколько мечтал, а так и не попал дальше Союза, м-да-а...
В щель двери просунул морду пес, заскулил протяжно и нудно. Диденко
сунул палец в жестянку, провел по дну, кинул кусок псу, расстегнул
ширинку, полез на нары. С час копошился, облизывал женщине груди; гудел
комар, навязчиво - то приближался, то взлетал к потолку; уколол в
локоть. Диденко упал на спину, захрапел отрытым ртом, и женщина в свете
плошки видела слюну, что стекала на протянутую руку. Занимался рассвет.
Черная сгорбленная лейтенантова фигура тянулась впереди. Ритмично
скрипел хромовые начищенные сапоги, и Диденко рысцой бежал сзади, нюхал
ноздрями запах мыла и одеколона. Тут же шаркали два бойца с автоматами,
под ногами путался пес. Диденко отпер контейнер, вывел оттуда
арестованных. Солдаты несколько раз присели, позвали свистом собаку,
крича между свистом: "шашлык, шашлык". Диденко хотел оборвать погоны,
но лейтенант знаками не позволил, и они направились вниз.
Дорогою арестованные посмеивались, что у них, мол, почти что
дембель, ведь раньше, прапор, будем в Союзе, чем ты, и вообще ему надо
б тут оставаться, как врос - без него, Диденко, нет службы. Стрельнули
по сигаретке, покуривали, дым беспомощно зависал прядями в неподвижном
воздухе. Лейтенант теперь уже чесал поодаль, и прапорщик видел, как у
него мелко вспотел лоб и очки, а руки, сжатые в кулаки,
побелели. Арестованные то и дело подзывали свистом пса, а тот
громко, звонко скулил и задирал хвост. Когда подошли к бойне, то
арестанты притихли, посасывали сигареты, сплевывали с губ табак. У
одного, с опущенным лицом, большими ушами, забегали глаза, зрачки
иголками сузились, ноги в коленях задрожали. Диденко подпихнул его,
тот, прихрамывая на обе ноги, подался вслед за товарищем.
В сарае, поделенном несколькими перегородками, пахло свежей
стружкой, сонно летали мухи, сброшенные людьми, барабанили о
глинобитные стены. Один из арестованных ухватил муху взглядом, долго
смотрел, как она бьется в косых лучах, пролезающих сквозь дыру в крыше.
Одного завели за перегородку, другой, ниже ростом, лопоухий,
остановился, потаптывая сапогами, возле стола, на котором стояла фляга
с водкой и куда, выставив начищенные сапоги, присел лейтенант, сверкая
стеклышками. Потом лейтенант стал читать приказ. Солдат заупирался,
хотел бежать, а Диденко со своим бойцом надавили на плечи, заломили
назад руки, вжали в глиняный, промерзший за ночь пол. Тогда он
закричал: "Паша, беги!" Диденко нащупал вороненую округлую рукоять
пистолета, приставил дуло к затылку и выстрелил: "Ни хрена делать не
можете, мать вашу". Кровь брызнула лейтенанту на штаны, и лицо у него
покривилось печеным яблоком. Диденко замутило, взял со стола флягу,
глотнул, но зашатало, и он вышел в приоткрытую дверь.
"Ты гляди, он сказал "беги", таки "беги", во как. Ты гляди, "беги""...
Через минуту поднялся гвалт, дверь взвизгнула, выбег заблеванный, в
крови штабной лейтенант:
- Пади канчай ево. Я не магу.
Диденко, отдыхиваясь, подался к сараю. Первого засунули в
полиэтиленовый тюк; неподалеку, в куче окровавленной стружки, билось
тело - пули поперебивали ноги
- Пробавал убегать.
- Да-а, Паша, это как зуб, сначала больно, а потом ни фига. - Диденко
по привычке поскреб затылок, матюкнул про себя литера. - Вы тоже
бараны. Это вам не скот, а человек.
Он наставил пистолет, щелкнул выстрел, тело задергалось, штаны
пожелтели от дерьма. Тело побилось, гребнуло руками смоченную кровью
стружку, затихло.
Взошло красное солнце. Мулла протяжно, тонко вывел молитву. Пес
затявкал и побежал на голос.
Киев, 1990 год