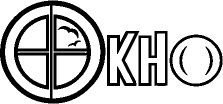
ДМИТРИЙ БАВИЛЬСКИЙ (МОСКВА)
О дневниках Любови Шапориной
(ЭССЕ)
Двухтомный дневник Л. В. Шапориной, жены известного советского
композитора, изданный "Новым литературным обозрением", следует читать
чтобы погрузиться вглубь окончательно и бесповоротно мёртвых времён:
одно дело читать заметки всем известного человека, ведущего за собой,
совершенно другое - записки "обычного" человека, где повод - не опыт,
имеющий общий, общественный интерес, но сам текст, вне которого автор
неизвестен.
Понятно, что "людей неинтересных в мире нет", Любовь Шапорина,
организовавшая первый в СССР Театр Марионеток, была неплохой
художницей, дебютные рисунки которой устроили наследников Кузьмы
Пруткова и которую рекомендовали Елизавете Кругликовой в наставницы.
Ещё до замужества, будучи Яковлевой, Любовь Васильевна, активно
"тусовалась" с "культовыми персонажами" "Серебряного века". Мих. Кузмин
обзывал её, ревнуя к одному из женихов, "своей врагиней", другой жених,
художник Н. Сапунов, утонул в Териоках на её глазах - среди других пяти
человек, Любовь Васильевна была в той самой опрокинувшейся лодке, когда
Сапунов погиб.
"Засвечена" она и в других, не менее символических и судьбоносных
событиях из хрестоматии рубежа веков, однако, не как центр притяжения,
но одна из, человек, проходивший мимо - в комментариях дан внушительный
список исследовательских публикаций, использовавших страницы этого
дневника: литературоведы и историки часто им пользовались для того,
чтобы отыскать что-то новое о фигурах первой величины, не сильно, при
этом, обращая внимание на личность самой Шапориной.
1. Начала
Между тем, документ этот уникален своей всеохватностью и как
протяжённостью (1898 - 1967), так и протяжностью; по крайней мере,
первые годы ведения его переполнены тоской об идеальном существовании,
страхом семейной жизни [тут восемнадцатилетняя Любонька как в воду
глядела], гендерными самокопаниями. Уже самая первая запись задаёт
тональность настроениям многих последующих лет - "Боже мой, такая
ничтожность, овца, ни на что не годная..." (14.11.1889)
Дальше уничижительные рефлексии будут лишь нарастать снежным комом,
превращаясь в морок самообвинений, однако, читателя спасает то, что
первые десятилетия Любовь Васильевна вела свои записки от случая к
случаю, поэтому всё начало века, вплоть до тридцатых, проскальзывает
легковесной выборкой. Вот и издательство, представляя книгу читателю,
говорит об уникальности этого текста, охватывающего период с 20-х по
60-ые.
Так что, начиная читать, ты попадаешь как бы в подзатянувшееся
предисловие, в пролог, в монотонную, варьирующую пару постоянных
лейтмотивов, увертюру: Шапорина не была профессиональным литератором,
она не строила этот текст чередованием "картинок и разговоров", но
писала, когда накатывает, присоединяя ещё одну запись к корпусу уже
записанного и забытого.
Писать, дабы вытеснить, не помнить: это отчётливо видно в записях
первых десятилетий, похожих на лежалый ком пожелтелых листьев - никакой
иной надобы в них нет, так и видишь, как сделанные одним почерком, но
разными чернилами, они продолжают друг друга в затисканной клеенчатой
тетради.
Она, ведь, пока ничего не анализирует, просто кипит и выкипает на
бумагу, выписывается; кусок янтаря, впрочем, не слишком проявляющего
время, точно записи эти, подобно пряже или лапше, тянутся изнутри
абстрактного "женского", "девчатьего", "девочкового", с которым,
временно, но следует смириться.
Чужое детство неинтересно как чужой сон; особенно, если описания его
лишены каких бы то ни было параллелей с твоим собственным опытом
(неинтересное чужое). Однако, если человек известный, заслуженный,
важный, терпишь несовпадение детств, обещающее последующую громаду дел.
Ловишь проблески грядущего.
Здесь же всё не так, не то, из-за чего автоматически включается
сплошная "актуализация высказывания", пожалуй, и составляющая пока
главное удовольствие от чтения.
2. Тридцатые
За ночь прошел записки за тридцатые годы. Шапорина, наконец, начинает
писать системно, аналитически, выказывая самостоятельность мышления и
цепкость взгляда, наблюдательность.
То, что происходит в стране приводит в ужас: сначала её саму, затем и
её читателя. Волосы дыбом.
Охваченный кипением Союз Советских Социалистических республик,
скатывается во всё больший упадок и, кажется, трещит по частям перед
неизбежностью развала (люди живут под собою не чуя страны, не зная,
когда и как эпоха закончится, они не обладают нашим знанием об эпохе,
поэтому и живут в слепоте точно такой же степени концентрированности, в
какой мы живём внутри свого времени - и, хотя бы в этом, мы равны).
Голод, холод, бессмыслица абсурда, подлость простого люда и
гомерическая подлость чиновников (начальства, в том числе и
писательского: Шапорина вынуждена много общаться с Толстым, с
Лавреневым) скрепляется двумя мощными в своей тотальности
объединителями - лживой пропагандой, воздействующей на "простых людей"
(Шапорина не выбирает слов, констатируя степени морального разложения
русских людей. Многие комментаторы обвиняют её в антисемитизме,
извиняются за некоторую пристрастность в этом вопросе, однако, ничего,
кроме обычной [традиционной] русской жестоковыйности по отношению к
чужакам, я здесь не отмечаю, тем более, что богоносцу достаются куда
более щедрые ругательства) - и репрессиями.
Их постоянно нарастающий ход Шапорина начинает фиксировать уже в
кажущемся нам совершенно безмятежном 1930-м. То, что проходит у нас под
табличкой "1937-ой" (ночные аресты, воронки, высылки, сломанные судьбы,
массовые смерти) заваривалось уже тогда - через раскулачивание, через
выдачу или невыдачу паспортов, власть швондеровских домкомов - причём
на всех, буквально, уровнях и слоях социального пирога; когда, запертая
в своих границах страна, не даёт возможностей для спасенья.
К середине 30-х Шапорина перестаёт удивляться "валу по плану", гротеску
и абсурду происходящего, устало фиксируя нарыв и надрыв, к которому,
оказывается, можно приспособиться, помогая лишенцам, спасая детей
арестованных родителей, продавая на рынке остатки дворянских вещичек.
3. Сороковые
Записи военных лет у Шапориной самые длинные, подробные, дотошные:
писанина - единственное, что отвлекает, способно отвлечь, "переключить
внимание" (вслед за Пьером Безуховым, сформулировавшим эту
психотехнику, Шапорина "переключает внимание", заставляя отвлечься от
ужасающих бедствий кругом повседневных забот, связанных с выживанием),
из-за чего становятся понятными мгновенные переключения тематических
регистров внутри записей, жесткий монтаж, удивлявший ещё в записях
тридцатых годов.
Хронический голод, бомбежки и ужасы советского быта описываются Любовь
Васильевной во всей их ужасающей повседневности, обыденности. Трупы,
каннибальство, бесчеловечность официальных институтов и редкостная
душевная щедрость людей, помогающих последним. Постоянные смерти
близких и далёких, красота опустевшего Ленинграда, списки цен и норм
хлеба. Работа медсестрой и попытки воскресить кукольный театр, писание
статей, холод в комнатах. Бессилие.
Блокадные записки Шапориной, готовой умереть в любой момент, впрочем,
как и блокадная проза Лидии Яковлевны Гинзбург завораживают (здесь
пригодно именно это слово) особым беспримерным состоянием, сочетающим
бытовуху жизненного уклада с мощным экзистенциальным горением, движимым
не только инстинктом самосохранения, но и какими-то духовными
мотивациями.
Иногда, вспоминая о еде, Шапорина ругает себя за недостаточную силу
воли, однако, дух её, благородный и аристократический, только крепнет
день ото дня, наливаясь дополнительными оттенками. На последние деньги
она, вместо еды, покупает книги у букинистов, так как во время
обстрелов нужно же чем-то заниматься, что-то читать; ходит в церковь.
Первая блокадная зима выходит, на новенького, особенно тяжёлой, вторая
зиждется на повторениях, кажется, уже ничто не может удивить, однако,
особенно если это сравнивать с записями второй половины сороковых и
начала пятидесятых, высокая (и, пожалуй, единственно возможная цель)
выживать дополняется стремлением не оскотиниться.
Позже, Шапорина обозначит свой блокадный опыт как сокровенный,
неразмененный. Неразмениваемый. Странным образом, концентрация
предпоследних сил и цель (совсем как в болезни) делает жизнь не только
простой и понятной, но цельной и захватывающе интересной - умереть
Шапориной не жалко, жалко не увидеть, как она это называет "рассвета"
(имея ввиду даже не конец войны, но падение режима и встречу с братом,
живущим в Париже: сведений о нём она не имеет до 1950-го года).
Книги вместо хлеба могли бы стать пошлой метафорой, если бы не выходили
сермягой: дворянка и интеллигентка (искусство - вот что самое важное в
её одинокой жизни), подруга Ахматовой и Кругликовой, матери Шостаковича
и бывшей жены Толстого, Остроумовой и десятков менее известных
личностей, она, одновременно, уязвлена и ослаблена своим культурным
бэкграундом, заставляющем её отойти от хамской очереди за мякиной - но
им же и вооружена. Именно "ум" (понимание, рефлексия, любопытство,
графомания) помогают ей пережить нечеловеческие условия Блокады там,
где другие падают от истощения.
Поразительная, в своей кинематографической пошаговой разложенности на
составляющие, дилемма! Не знаешь, где найдёшь, а где потеряешь и что в
пограничной ситуации способно оказаться соломой, предохраняющей от
окончательного падения.
В послеблокадных и, тем более, послевоенных записях самочувствие её
заметно проседает из-за отсутствия цели и цельности, из-за хронического
голода и бедности (Шапорина тянет не себе двух девочек, дочек сосланной
знакомой, а так же двух своих внуков, брошенных сыном и его развратной
женой Наташей, и, при этом, вытягивающих из старушки последнее),
чудовищной нищеты (вся страна выживает на грани, цены растут вместе с
безработицей, уголовщиной и репрессиями).
Да, особенно гнетёт Любовь Васильевну беспросветность жизни
народа-победителя, его окончательная деклассированность, быдлизация
всей страны, ставшая ежедневной государственной политикой).
Перестают помогать даже ощущения, охранявшие её в более трудные военные
годы - тоска по умершей дочери (самое страшное переживание, разделившее
жизнь Шапориной на "до" и "после", тускнет и становится каким-то
дежурным), самый важный её секрет, объясняющий лёгкость и внутреннее
равнодушие, с каким Любовь Васильевна перешагивает через самые сильные
лишения, её неувядаемая интеллектуальность.
Неизменной, даже крепчающей, остаётся вера с Бога (количество
евангельских цитат возрастает пропорционально эмоциональному упадку),
реликтовое православие, лишённое каких бы то ни было примесей,
языческих или декадентских, позволяющее построить внутри своей жизни
нескончаемый параллельный коридор, в котором можно спрятаться и
отсидеться. Пересидеть.
4. Послевоенные и последние годы
Смерти Сталина она почти не заметила, по крайней мере, сильных эмоций
она у Шапориной не вызвала. Параллельно у неё отобрали единственный
источник существования - перевод романа Жюль Верна, параллельно
активизировалась жена сына, один из главных источников бытовой
нестабильности, поэтому Любовь Васильевне было чем загрузиться и помимо
Сталина.
Хотя она не забывает фиксировать то, что происходит вокруг - на улице и
в домах, записывает рассказы людей (даже малознакомых), всё больше и
больше превращая дневники в воспоминания, всё больше проникаясь
значением этого приватного текста и значимостью человека, выступающего
в роли свидетеля.
Двухтомник делится на две части по хронологическому принципу; первый
том заканчивается 1945-м годом, а уже в 1947-м Шапорина начинает
понимать о свидетельской ценности своего дневника и тогда он становится
более подробным (середина пятидесятых описывает так же детально, совсем
как в записях блокадных лет), в нём начинает простраиваться едва ли не
романная техника - я, прежде всего, имею ввиду отложенную цель
("увидеть рассвет" и повидаться с частью семьи, осевшей в эмиграции),
которая, несмотря на невероятность осуществления (конца СССР ничто не
предвещает, а сталинщина держит границы на замке, все запросы Шапориной
отвергаются с лёту) постоянно муссируется в записках.
Шапорина начинает посещать спиритические сеансы, где все её мечты
обещают сбыться. После смерти Сталина она подаёт запрос на поездку в
Женеву и в дневниках нет ничего о том, как депутат Верховного совета
Д.Д. Шостакович лично пробивает ей путешествие. Оно осуществится за
семь лет до смерти и жизнь в Женеве, описанная всего на паре страниц -
единственное, что осталось от тетрадок 1960-го года: последние годы
Шапорина пишет мало (ей, наконец, удаётся встроиться в переводческий
цех, получить заказы на книги Стравинского и Гоцци, тексты Пиранделло),
так не до дневника.
Постфактум, форма дневника кажется счастливо найденной, хотя и
формировалась спонтанно, следуя логике жизни - когда Шапорина
пропускает дневники продуктивного периода и в личной и в творческой
жизни: полноценно (развёрнуто) она обращается к тайным тетрадям когда
на сексе она ставит крест (ну, или жизнь её на нём крест ставит) - в
двухтомнике нет ничего об этой стороне жизни.
Самые густые по фактуре и замесу записки (репрессии начала 30-х,
Блокада, гонения времён "борьбы с космополитизмом") совпадали с
оставленностью, отсутствием работы, невозможностью делать что-то ещё -
Шапорина вела дневник особенно системно когда других способов
отдохновения не возникало.
Так вышло, что эти периоды совпадают с самыми тяжёлыми государственными
кризисами (вот уж точно, "судьба семьи в судьбе страны") и можно
предположить, что другой человек в своём дневнике расставлял бы акценты
иначе и по другому, а тут не проходит ощущение, что именно сложности
конкретных моментов формировали структуру отдельных частей документа.
Она пишет, но и ей пишут и то, что теперь выглядит системой,
складывалось случайно.
Шестидесятые (когда ей, вообще-то, далеко за семьдесят) Дневник
становится окончательно штрихпунктирен и, следовательно, более
схематичен. В нём много об Ахматовой и Остроумовой-Лебедевой, других
важных и незначительных персонажей, постепенно сходящих со сцены -
дневник движется от одной смерти к другой и даже самая последняя запись
Шапориной, сделанная за пару месяцев до смерти, посвящена Ахматовой.
Это, кстати, очень странное ощущение: убивать человека своим чтением -
ведь чем быстрее ты читаешь, тем скорей исчерпаешь объём этой, уже
давным-давно прожитой жизни - с худлитом такого не происходит, но с
документами - сплошь и рядом (совсем недавно поймал такое ощущение с
дневником В. Гомбровича ), тем более когда ничего кроме вот этого
конкретного текста не осталось.
С Гомбровичем, впрочем, "проще" - он продолжается в своих
романах, конечных и "временных" (почти любая проза, особенно книги ХХ
века, имеет отмеренные сроки годности), которые, тем не менее, на фоне
дневника кажутся едва ли не бессмертными, а вот документы, которые в
отличие от прозы, не устаревают (ну, просто по определению не могут
устареть) обрываются и исчезают без следа - как и положено жизни
"обычного" человека.
Шапорина - обычный человек; таким образом, никакой дополнительной
ценности в её бумагах как бы нет - ну, конечно, это ценное
свидетельство о жизни десятков людей и десятков пережитых обществом лет
(Шапорина меняется и не меняется вместе со страной), но самое главное в
нём (или лично для меня самое интересное) - личные перипетии жизни
Шапориной и её родственников, за которыми следишь с особенным
любопытством.
Возможность романа (другое дело, что относится к этому можно по
разному, кому-то это хорошо, а кому-то не очень) возникает именно на
этих, кровных, путях, ведь хотя бы гипотетически можно предположить,
что есть и другие описатели общественных настроений "культурного
Ленинграда", тогда как главная незаменимость текста возникает лишь
здесь - в сфере приватного.
И когда Сталин умирает, Берию расстреливают, приходят Маленков и
Булганин, затем Хрущев и даже Брежнев (Шапорина пишет о его репутации
"глупого человека". Кстати, слухов [как и политических анекдотов] в её
дневнике тоже немало, она фиксирует их безоценочно, так что даже нельзя
сказать как она сама к ним относится), она начинает думать, что мечты
осуществляются. Рассвет брезжит, Женева свершается. Тут бы и делу
венец, но жизнь не заканчивается - пока человек жив, результатов нет и
быть не может.
Они откладываются, уступая место повседневности, в которой не бывает
однозначных событий. Шапорина, точно вол, тащила на себе близких,
голодала, изнашивала старую одежду (как-то, уже совсем на излёте
второго тома, меланхолически замечает, что не покупала ничего нового с
1935-го года, когда взяла на кошт двух маленьких девочек - детей
арестованных друзей [позже, одна из них, Галя, пытается отсудить у
Шапориной комнату].
Так же с Любовь Васильевной живут родственники Наташи - бывшей жены
сына Васеньки, который (копия отца) давным-давно перебрался в Москву, с
двумя внуками (Соней и Петей), от которых блядовитая Наташа, постоянно
меняющая любовников и, судя по всему, осведомительница, отказывается,
переставая кормить. Живут тесно, гуртом, никакой благости или, хотя бы,
понимания.
Выдающаяся Шапорина воспринимается ими как донор и помеха, как хозяйка
жилплощади, которую, впрочем, постоянно (!) пытаются урезать (и в
тридцатых, и в сороковых и даже в пятидесятых) или уплотнить.
И тогда, зажав дворянскую гордость в кулачок, Шапорина пишет бывшему
мужу или навещает чиновных знакомых.
Я о том, что апофеоза (добродетельной старости, возможности "собрать
камни" или почивать на лаврах) нет и быть не может - за свою долгую и
чудовищную жизнь Шапорина ничего не заработала, причём как в прямом,
так и в переносном смысле.
Почтительность, вызываемая у нас этими документами, возникает из-за
большой временной и литературной дистанции - для человека нашего
времени, она - не только нарратор, но и безусловный участник минувших
событий (общественных, культурных, исторических), их неотъемлемая
часть, тогда как для близких - вздорная, горделивая старушенция, какой
Любовь Васильевна запечатлена на последней фотографии.
Стоит этакая фифа в ношенном пальто и шляпке на чёрно-белой
ленинградской улице (возле своего подъезда?) Черепаха Тортилла на
каблуках. И, кажется, что несмотря на согбенную старческую немощь
88-летнего человека, спина у неё всё ещё пряма как спинка венского
стула. Как стена доходного дома, возле которого она стоит. Когда-то
стояла...