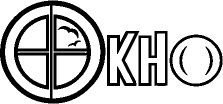Следы
Снег обессилел держать твои следы,
и они рассыпаются,
каждый шаг распадается на миллиарды прозрачных крупинок,
и если бы я сумела набрать твоих следов,
приворожила бы тебя крепко и невозвратно.
Ты смеешься,
находишь ниточку на моем свитере,
тянешь ее - и я по-глупому счастлива:
тяни,
тяни смелее, не отпускай!
Расплетай меня, я и так не была живою...
Только потом сплети наново,
На свой разум и вкус.
Я не знаю, есть ли такая мелодия,
что может полностью передать мои волнения
от твоего звонка...
За какую угодно цену я бы купила ту музыку,
поселила ее в телефоне -
пусть живет и растет.
Женщины золотом звонко идут тебе в руки,
но большинство - сквозь пальцы...
и только одна
имеет счастье каждое утро впускать тебя
по капельке.
* * *
Прочесав все на свете моря, испробовав дикого табаку,
отгрызя тяжелую лапу усталости,
он поворачивает к своему проклятому берегу,
где так пусто и страшно, что птицы клыки отрастили,
а вместо товара приходят новые нищие и калеки.
Он по привычке смолчит: "Ну, доброе утро,
Вечнозеленая куча говна!"
А город, как обычно, не скажет: "Привет тебе, извращенец!"
Он, потоптавшись во ржавом песке, сотрет со щетины пыль,
чтобы опять пойти к ней,
к этой храброй девчонке в резиновых красных сапожках,
что хочет его...
что хочет его
новых рассказов и жвачек и странных зверей в больших книгах.
Он посадит ее на широкий, как мир, подоконник,
где черные опухоли вазонов,
где длинные шеи малахитовых кактусов тянутся сквозь каменья,
чтобы увидеть, что будет дальше.
А сказка в его ладони - как маленькая мушка,
то стихнет, то снова ищет свободу.
И вот он - твой заморский спаситель, твой ирисовый рай.
Что видела твоя мать, когда на нее сошла благодатная боль?
Слышала ли она звуки сиротского хора,
когда клала тебя на влажные кусты можжевельника?
Кто окрестил тебя с первыми переломами,
когда всех ангелочков уж разобрали,
а ты долго глядела на шторм, а потом
впала в кому?
Он тебя подобрал. Он тебя окрестил. Он тебе берег.
... Нищие так низко дым пускают,
что они, идя мимо них, взявшись за руки,
на него наступают,
затаив в горле каждый свою монетку.
Идут по городу, где нет цирка, ведь никому не весело,
идут по ракушкам, ведь никто в них не живет, кроме
приблудного шума,
идут отпускать грехи покинутым кораблям...
Двойняшки
Шестилетней я не любила зеленку и вазелин,
была симулянткой болезней и растеряшкой,
подходила к чужому окну, что росло из земли,
а оттуда глядели соседские сестры-двойняшки.
Их вечно короткие стрижки, нависшие лбы,
Их бесконечные слюни, тупые взгляды.
А еще у них был папа, похоже, он их любил,
ставил на подоконник и ножки гладил.
Я домой возвращалась, ругала школу, ела обед,
ловила в тенета зависти сопливые те моменты,
и вспоминала усиленно, каким был мой дед,
а мама устало бежала за алиментами.
И когда закрывались двери, и все темнело,
и все секреты раскладывались по фантикам,
я представляла, как сильные руки легко и умело
поправляют мне форму и белый фартук.
Луна же врастала в осень обломком ребра,
и на свете уже ничего не имело значения...
... и мама всегда говорила, что хочет мне лишь добра,
и просила прощения...
* * *
Спрячешься - отыщет и успокоит,
женщина, в себе твой запах носившая долго,
сходились часто - точно грифоны с оконниц,
чтоб разбежаться в солнца ожившем локоне.
... Она отнимает, ставя тяжелый плюс,
в меха тумана закутывая с головою,
в черных колонках - черный-пречерный блюз,
словно готовый к последней дороге с тобою.
Она выбирает решительно и бесспорно
Шепот ручного воска, печаль цветов,
Будут все мягче и мягче ее укоры,
Будет все крепче и крепче ее любовь.
Так, будто якорь, потянет, будто вода глотнет,
Косточками почувствуешь - о, благодать меж вами.
А солнце, разбившись о веко - уже не уйдет,
И сосны, и небо с натянутыми проводами...
* * *
Я гладила бархатные спины китов,
и слышала, как они плакали,
ночью,
когда, наконец, мы узнали,
на чем действительно держится наш мир.
Киты, как испуганные дети, дрожали
и таяли под руками,
а я понимала,
что ничего не могу сделать,
и некого звать на помощь.
Я была предана, и еще больше - устала,
отпустила -
и поклялась
не искать впредь опоры.
Ты играл серебристою зажигалкой
в такт молниям за окном
ты был моим полынным богом,
и глаза твои были цвета абсента,
потому я от них так опьянела,
что уж и молиться перестала.
Так куда же ты пойдешь в грозу такую?
Хочешь, выключим телефоны и свет,
оставим лишь французское кино
да запах корицы,
как тогда, помнишь?
Тогда кто-то постучал в дверь,
И я спросила "Кто?",
а он мне -
"Жан Кокто!"
О, как нас насмешил!
Останься, пережди,
а завтра пойдешь к ней,
чтобы снова подставить спину
и держать свежесозданный мир.
Я была уже так высоко,
и не слушала, как останавливается повербол
за ребром
и не видела, как абонент вне зоны трезвости
обливает бензином постель -
потом смотрит, как вспыхивают
ночи, проведенные вместе,
как за углом исчезает
серая тойота в бирюльках ливня.
Только тени старых китов
проплывали над пожарищем...
Анна Малигон
- украинский поэт, прозаик, эссеист. Родилась в городе Конотоп.
Окончила Нежинский государственный университет им. Н. Гоголя (2006),
магистратуру Института филологии Киевского национального университета
им. Т. Шевченко (2008). С 2004 г. - член Национального союза писателей
Украины, с 2011 - член Совета НСПУ. Автор более трех поэтических книг и
романа. Лауреат премий "Благовіст" (2012), "Ватерлінія" (2012),
Международной Украинско-немецкой премии имени Олеся Гончара (2009).
Живёт в Киеве.