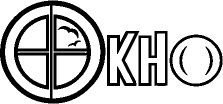
ШАМШАД АБДУЛЛАЕВ (ФЕРГАНА, УЗБЕКИСТАН)
ОДНО СТИХОТВОРЕНИЕ ВИТТОРИО СЕРЕНИ
(ЭССЕ)
ПРОЕЗДОМ
Считанные часы.
Всего-то.
Невиданное
освещенье.
Цветы, какие в
августе и не снятся.
Брызгами кровь
над лугами,
для олеандров
вдоль моря пока рановато.
Жарко, но
купаться почти не тянет.
Ветреное
тирренское воскресенье.
Я уже умер? Тем
смерть и мила мне,
что вернула
сюда? Или я единственный
живой в этой
оживленной и неподвижной
никчемности
воспоминанья?
Перевод
Е.Солоновича
В этом ломком стихотворном повествовании за вкрадчивостью беглых
реплик, похоже, скраден страх самого автора оказаться после смерти
блуждающим духом, исполненным тоски по неизбытой витальности, как
гинсберговский Уитмен, пришедший в комнату брачующихся в Денвере в
конце пятидесятых годов, когда, наверно, и был создан исповедальный
этюд "Проездом". Сначала наблюдатель замечает перед собой что-то вроде
слепительного "тумана" (название одной из ранних
примитивистски-ландшафтных иносказаний уроженца Луино), сплошную стену
бесцветных каверн, где, собственно, возникает зачастую стиль - в хаосе,
в уверенности неопределенного, оснащенного летним блеском настырного
эвфемизма: невиданным освещеньем. Немного дальше герой признается, "тем
смерть и мила мне", - то есть он лишь ненадолго намерен вернуться
назад, чтобы вновь облечься в терпко-теплую стихию, в которой повсюду
прямо поверх предметов на тебя таращатся раненые метафоры полевого
госпиталя под рёв англо-американских бомбардировщиков, - опять
замаскироваться, спуститься в нафс, свидетельствующий, что ты,
покинувший свою плоть, не ошибся хотя бы на короткий срок в прежнем
адресе и вправе сейчас примерить на себя роль просто зрительного
эфемера, обтянутого человеческой кожей и не обязательно глядящего на
всё подряд кругом в жаркие дни двухнедельной вакации. Текст
заканчивается самоумалением, брезгливой редукцией и сжатием
пассеистского простора - "в... никчемности воспоминанья":
шестнадцатилетней давности (10 июля 1943 года, городок Трапани, не
стаявший покамест на кромке тирренской сини, - Сицилия, где Серени,
служивший в муссолиниевской армии, был взят в плен союзниками) жалкой
весточкой из недр твоей биографической мифологемы; надежностью немого
обета не возвращаться к ссадинам окопной поэзии; аллегорическим
олеандром, испившим влагу остужающего забвения. Тот, кто унижен, на
самом деле выдает и бичует себя чванливой сентенцией ("я единственный
живой") бодрящейся жертвы, многоопытной в маске нормального
интеллигента, спокойного созерцателя, чья невозмутимость утаивает
темное зерцало обид и фобий. Вдобавок война (помимо прочих невзгод,
которым несть числа) вторглась в тебя травмой видеть всё ясно, в первую
очередь - ненужность своего появления на свет: наваждение, с которым ты
боролся (как с человеком без лица на мосту над Магрой либо над Трезой в
силлабической инсомнии "Сон") в дальнейшем, до своей смерти, до 10
февраля 1983 года. Мало-помалу входящее в привычку ощущение, что ты зря
жив, цепко селится в тебе, но его хватка время от времени ослабевает -
как водится, в те моменты, когда ты безотчетно поддаешься ему. Кроме
того, брызги крови не столько означают колористический стресс, или
мимикрирующий под эпитафию, под слово-приложение вольный,
четырёхсложный эпитет, или квазипасторальные хроматические пассы,
разметанные по суше полуденными, шальными лучами, сколько ложное
утешение, приём психологической компенсации, подменяющей пятна
батальной бойни бликованием мирного отпуска: всякое преступление
главным образом творится против Места, и ты ещё воротишься сюда, через
четырнадцать лет, когда выйдет un posto di vacanza, твой сборник, в
семьдесят третьем, чтобы встретиться тут (к тому периоду ушедшим из
жизни) Элио Витторини. Именно здесь разворачивается пляжная,
прогулочная амфиония одиннадцатистрочного верлибра на фоне морского
кладбища (Серени, кстати, переводил Поля Валери). Сразу считываешь
предательски искреннюю конвульсивность первых верхних пяти стихов,
преимущественно назывных, за одним исключением безглагольных и
состоящих (чтобы лучше спорились дыхательные усилия) сплошь из рубленых
синтагм. Всё это бескостное голошение, смахивающее на один поспешный,
ячеистый, полый прелюд к некой невероятно подробной личной истории, к
протяженному, так и не свершившемуся curriculum vitae, эта работа
эфирных мышц в мякотной канцоне просится непременно наткнуться на
что-то твердое, на дверь, открывающуюся в лазурную ширь, словно агония,
которую ты принял с благодарностью, должна просочиться в береговой
натюрморт. Одинокая оценочность глухой, сумеречной риторики (в
никчемности воспоминанья), допустимой в финале чуть зашифрованной
элегии, подчеркивает, что ретроспективный сарбаст* тайного солипсиста
уже иссяк, продлившись несколько мизерных тактов. ( Никто им не в
помощь - пишущим небольшие стихи, как признается Гэри Снайдер. Известна
склонность итальянских герметиков, не чуравшихся иногда меланхоличной
дидактики, что нуждалась, однако, в крайней лаконичности, - "Покой"
Унгаретти, "Октябрьский вечер в Витербо" Гатто, "Скорпион" Синисгалли и
т.д., - к маленьким стихотворным вещам, к словесной компактности,
прерванной в послевоенное десятилетие длинными тропами диалектальной
лирики Леонетти и Пазолини, но прежде всего эпическим , неомарксистским
монологом "Праха Грамши" в 1957 году). Затем, на шестой строке, поэт
неожиданно и неуловимо делится с читателем пониманием странного
визионерского эффекта: когда ты прекратишь мифологизировать
обыденность, немедля наладятся твои отношения с внешней внешностью,
которая вдруг бальзамически обернется сподручной окрестностью,
заслонившей твою нынешнюю бесстрастность от психоделической грызни и
сверлящих фантомов из прошлого. "Жарко, но купаться почти не тянет" -
только буквальную, обиходную естественность следует слышать в подобных
предложениях, не имеющих символических довесков либо депрессивной
коннотации, - ведь к нам близится отнюдь не вещий жар неостывающий
пророка Исайи. Даже в прозвучавших ступенькой позже словах "я уже
умер?" вряд ли сквозит последний, дребезжащий морок. В них, скорее,
брезжит под угловатым затуханием однократного вопроса некая
незамутненная избыточность новой неизвестности, где угроза и есть
упование просвещенного агностика, которому мир когда-то сделал больно (
причем, коварно чудится, враждебная среда извне совершенно впредь не
чает в атмосфере бесконфликтной настоящести чинить непоправимый вред
твоему бытийному настрою, кое-как усмиренному и заласканному
неподдельной мнимостью цивилизационного долга). Ужас - это не
по-итальянски, заметил бы спустя секунду проклятый поэт в грёзах о
путешествии в Харар, до своих африканских скитаний. Надо сказать, что
Витторио Серени ( с его болезненно строгой манерой улавливать в другом
и в других только достоинства) совсем не дублировал, допустим,
Палаццески или Гоццано, своих старших коллег, - вернее, ни разу не увяз
в цементно циничном дистанцировании, в ироничной отстраненности,
усугубленной жан-поль-рихтеровским высоколобием, "возвышенным наоборот"
европейского романтизма, и в его сочинениях едва ли привились
лингвистические гаргулья сторонников Альфабеты и Сангвинетти. Так что,
сдается, он и впрямь на полном серьезе принимал дилемму: умереть,
оставив позади аневризму и химеричный азарт историчности, или
продолжить настойчиво пребывать в машинальной сиюминутности какого
угодно, безвредного времяпрепровождения.
Применительно к минувшему, к нудно придирчивым, иссушающим
укорам совести Серени не сумел в себе выпестовать беспечность
вербальной пластики и лёгкость клейстовских марионеток. Тем не менее
сила его бесславной надсады, не осуждавшей никого и посему не
подлежавшей синедриону, его неисцелимое сопротивление теням некогда
мрачных обстоятельств, его лунатический штурм против себя, прячущий
напоказ причастность поэта к избранным никем изгнанникам плоской
повседневности ( жить честно труднее, чем мужественно умереть, говорит
священник в фильме "Рим - открытый город"), вывели как раз его
медитативную рефлексию к лучшим образцам итальянского поэтического
исследования двадцатого века. Современный словесник не осмелится
промолвить, я день мой краткий прожил, как боги ("К Паркам",
Гёльдерлин), но ему нетрудно (как Витторио Серени в одной своей
поздней, волнообразно-пышной эклоге) произнести, ныне умолчание
вымирает. Как ни крути, нельзя пафосно преувеличивать значение и
ресурсы безмолвия: тот, кто не высказался, ни в коей мере не живет
вечно и тоже угасает насовсем, тоже покидает жизнь в предсмертных
муках. В общем, получается, что дар письма не столько силится намекать,
что его источник восходит к анонимным небесам, сколько, в основном,
старается с каждым разом искусней отвлекать всё более изощренных, всё
более неподкупных читателей от опасной очевидности, заглушающей
культуру и пряную опеку молитвенных заблуждений, - отвлекать от желания
срочно сгинуть, очутиться вне сансары, исчезнуть без боли. Думал ли
Серени о подобных вещах, когда вынашивал свою очередную верлибровую
песнь от первого лица, замкнутую на сугубо частном биографизме, на
устало-периферийной, укромной летописи давно распрощавшегося с
действительностью шизоидного, одинокого путаника? Неясно. Но зато по
каким-то второстепенным, вертким, эльфичным нюансам внутри резкой,
экспрессивной характеристики, вскользь брошенным в топку текста (к
примеру, "в этой оживленной и неподвижной..." - прилагательные, впрочем,
вообще отдают рискованностью в обстановке лирического, суггестивного
минимализма), мы угадываем, что в данном случае речевая работа, как
большинство литературных удач, вершилась между делом: среди насущной
рутины и саднящих сигналов телесной уязвимости перед черствой личиной
экономического чуда (посещение завода "Пирелли", забота о крупном
издательстве "Мондадори", переводы с англо-французского, болезнь
сосудов) чересчур недолог досуг и быстр бег целительных, пустых пауз,
которым зачтется их пылкая преходящесть в перспективе корректно и
уклончиво-метко рассекреченного транса. По сути, стихотворение
представляет собой скрытую реминисценцию, направленную вперед, на
завтрашние именования, на будущее: на поэму самого Серени "Место
отдыха", которое появится в ранние семидесятые, и на фильм Штрауба,
поставленный, кажется, в Сиракузах в 1998 году. Вопрос Элио (
флорентийского друга Серени и романиста, Люди и нелюди etc.) - "что ты
делаешь в этом лягушатнике?" (имеется в виду - зачем ты до сих пор себя
терзаешь среди живых нелепой словесной возней?) - теплится в памяти
поэта над тирренским побережьем куцей достоверностью отгрезившейся
хроники, как пазолиниевские похороны Тольятти, завершившие столетнюю,
бессорную эпику (начиная с Клето Арриги и Скапильятуры) землистого,
наждачного документа и безобманных народных ликов, лишенных лоска, по
черно-белому чекану выверенного веризма. Ладно, говорят боги, разрешаем
тебе задержаться тут и теперь ещё на одну декаду (год издания "Место
отдыха" - 1973-й), ещё на один десятилетний drang. Потом перебирайся к
нам. Тем временем в ленте "Сицилия" (по знаменитым беседам Витторини)
камера Даниэль Юйе панорамирует кусок невзрачного пейзажа, слева
направо и справа налево, частокол, поворотный извив пыльной дороги,
затравевшее острие скального обрыва, косой росчерк средиземноморского
горизонта и - обратно: ни действия, ни интерзвуков, ни сюжета, ни
вызывающе прорисованной композиции кадра; только монотонные голоса
(мимо объектива) залетных персонажей и фрагменты сиракузской местности,
голоса и фрагменты, снятые наугад, попутно, в на ощупь найденном
полу-рапиде, инстинктивно, за считанные часы. Как обычно:
проездом.
Фергана, 2013
*Сарбаст (тюрк.) - свободный стих.