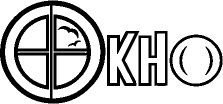Редакторы в издательствах много редактируют, но
мало о своей работе пишут. Я тоже о своих редакторских буднях написал
не очень много. Я выбрал лишь некоторые, запомнившиеся мне, эпизоды…
Как по такой занесённой снегом Москве доехал до издательства этот
автор, как он не потерялся в белой пурге, я у него не стал выяснять.
Хорошо (подумал я), что хоть доехал, поскольку симпатичный вроде
человек и, должно быть, роман ничего себе написал, а еще две повести и
семьдесят семь рассказов. Он, короче говоря, ногами долго топал на
пороге. Потом снял шапку и сказал:
"Пятьдесят сантиметров осадков! Месячная норма!.. Последний раз такое было в 1918-м! Революция, етит её об колено!"
И двинулся в сторону полок с книгами. У них остановился, одну книгу
взял, её полистал и поставил на место…
"Хорошая книга! - заметил он. - Давно напечатали?"
Я сказал, что не очень давно.
"А что касается Москвы, - сказал он, - то сегодня Москва очень снежная,
метельная, непроездная, непроходная и еще какая-то. А кто, по-вашему,
виноват?"
Я честно сказал, кто виноват, почему и на каком основании на нём вся
вина.
"Нет, - возразил он, выслушав мои аргументы. - Одна лишь наша природа
средней полосы России. Она во всём и всегда виновата. Она и только
она… А, вы знаете, что с ней будет дальше?"
"Нет, - тупо сказал я. - Что с природой может быть дальше?"
"Вот и я не знаю, однако есть у меня одно серьёзнейшее подозрение".
"И какое именно?"
"Очень сильно я подозреваю, что будут сменяться режимы,
градоначальники, и всё опять у всех украдут, включая совесть, а природа
нашей средней полосы, у которой бывает два типа погоды - хорошая редко
и плохая часто - останется при том, что всегда и во всём окажется
виноватой. То есть, как 1918-м, сильнейшая пурга, ни ездить, ни ходить
невозможно, а откуда такое взялось - спросите, господа, у природы. Вы
что-то хотите мне возразить?"
Я ничего не возразил, и он выложил на стол пятьсот с лишним страниц
своего нового романа...
* * *
Какие же всё-таки замечательные авторы, которых я вижу в стенах нашего издательства! Каждый со своим почерком, со своей рукописью, со своим личным отношением ко всему. И времени из-за непрерывного редактирования не хватает, чтобы за ними записать самое, по-моему, наболевшее и самое выразительное.
Но как-то ухитряюсь.
Сегодня четверг, первый день ноября,
температура за окном ниже ноля, и я в тепле издательского помещения,
среди
книг, карандашей и компьютеров записал вот это. И это, на мой взгляд,
такое "вот это", которое было бы глупо скрывать…
"Сижу я с вами первого ноября 2012
года, а сам думаю не о вашем книжном бизнесе, а о склонности своей к
мечтательности и забывчивости. О них я могу сказать несколько слов.
Сначала о
мечтательности. Да, я мечтатель. Я уже в возрасте, но мечтатель. Я,
знаете ли,
такой мечтатель, какие редко где бывают, а то и совсем не бывают нигде.
Я
ежедневно мечтаю о благополучии страны и чтобы кончали мы быть родиной
носорогов. И еще, конечно, мечта у меня о том, чтобы завершить свой
многолетний
труд по написанию романа. Об этом мысли у меня ежедневно… Теперь о
забывчивости. О ней я мозги напрягаю, а толком сказать ничего не могу.
По-моему, это ужасно, глупо и противно что-нибудь забыть. Вчера где
был? Там-то
и там-то. Что видел? То-то и то-то. А позавчера? А десять лет назад? А
вот эти
ботинки я где купил? А со своей женой это… ну… последний-то раз так
сказать?
Нет, нельзя, невозможно столь грубо, необдуманно топтать свою память,
сидя тут
с вами первого ноября 2012 года!".
*
* *
Сегодня понедельник. За весь день три
раз выходил курить на Большую Никитскую и видел, как огромный
полицейский
выпускал из Газетного переулка несколько чёрных машин с высоким
московским
начальством внутри.
Внутри же издательства всё так, как бывает в начале недели: телефонные звонки, электронные письма, сладкие сухари, беседы о чьей-то внезапной смерти и чьей-то продолжающейся жизни.
Потом пришёл автор, который сказал, что пока ещё жив, поэтому и пришёл. Тот разговор, который у нас с ним состоялся неподалёку от микроволновой печки, заставил меня придти к заключению, что некоторые активно пишущие люди понимают в этой жизни те её далёкие и потаённые уголки, которых ни один автор, на мой взгляд, понять не в силах, как бы ни напрягался. За исключением самых крупных по величине и въедливых по сути…
Кто это такой, я спросить постеснялся,
но поинтересовался: "Вы - активно пишущий человек. Вы и о жизни знаете
столько,
что завидую вам... Поэтому вы как считаете: я когда-нибудь кого-нибудь
из самых
крупных авторов могу встретить, предположим, на Большой Никитской
улице?.."
Он посмотрел на меня так, как будто спрашиваю что-то необычное. "А то! - сказал он. - А как же! А отчего бы ни встретить! Представьте: выходите вы после работы на эту вашу улицу и видите огромного полицейского. Он чем вам не автор?"
* * *
Еще один наш автор, который в наше
издательство приходит всегда почему-то по пятницам, любит высказываться
не
только о своём литературном труде. Его волнуют и прочие события,
странности,
эпизоды, фрагменты и еще что-то, о чем он тоже говорит.
А в минувшую пятницу, когда в Москве было резкое понижение атмосферного давления, он что-то рассказал, какой-то случай из своей жизни; затем, вернувшись к своему литературному труду, сказал, на мой взгляд, нечто сокровенное:
"О чем мой роман? Весь прошлый год и
часть этого я его дописывал, подробно заостряясь на каждой строке, а
понять, о
чем он, так и не получилось. Я с какой стороны к нему ни подойду, как
глазом
какой абзац ни схвачу, не могу сообразить, почему на каждой третьей
странице
какой-то мужик выходит на крыльцо и на всю улицу что-то кричит. Какой в
этом
смысл?
А то, что смысл есть, и мой роман о чем-то, тут у меня нет сомнений.
Это все
равно что сомневаться, что жена моя, если уж раззадорится, такую утку с
яблоками в духовке замастырит, что вся душа запоет. Стало быть, и роман
у меня
такое же по смыслу произведение, как эта утка с яблоками. Удачно самою
жизнь
схватывает!"
* * *
Автор, который приходит по пятницам, умеет
очень хорошо сказать. Обо всём. Сегодня, переживая за всё человечество
и за
самого себя, он сказал:
* * *
Весь день ждал, что принесут к нам в
издательство "рукопись, которая перевернёт всю Россию", а принесли семь
двадцатилитровых баллонов с питьевой водой. Но тоже полезная вещь в
хозяйстве.
На радостях пили чай с кусковым сахаром и хрустели сушками с мелким маком. Лица были почти у всех довольно-таки привлекательные.
Говорили о политике, о деньгах, о подорожаниях, о том, что сексуальный скандал разгорелся недавно в недалёкой Сербии, и о том, что скоро каждого прохожего обяжут дышать в трубку на предмет степени его опьянения.
Были и такие несколько минут, когда не о чем было говорить и, чтобы молчание не оказалось слишком навязчивым, наш редактор, Сергей Николаич, сказал: "Что же это мы? Мы обо всём говорим, а о самом главном постоянно забываем!"
А одна наша женщина, которая небольшого роста и зимой в тёплых сапогах по улице ходит, отозвалась: "О каком же главном вы говорите, Сергей Николаевич?" - "А о таком, Вероника Павловна, - сказал он и, выйдя из-за стола, закончил: - Я всегда об одном, вы это знаете. Я о том, сколько будет весить рукопись, которую, может быть, когда-нибудь к нам принесут. Будет она потяжелее бутыли с питьевой воды? Будет. А безмерно талантливой? Тоже будет. Всю Россию она не перевернёт, а хотя бы на уши поставит. Я им что нанимался - в трубку на улице дышать!".
*
* *
Так называемая "боязнь чистого листа".
Страх, а то и ужас перед тем, что надо что-то на нём написать, а что -
неизвестно.
Сегодня, кстати, автор, который забежал к нам в издательство вечером во вторник, признавался в своём крайне обеспокоенном состоянии.
Не знаю, что потянуло его на такую откровенность, но говорил он смачно и не стеснялся в выражениях. Кое-какие выражения я вынужден опустить, а кое-какие оставить. Но и эти были настолько смелы, что суть их звенела в самом воздухе помещения.
И я не знаю, как вы, а я был в значительной степени удивлён, услышав о каких-то кошмарах, которые преследуют этого человека, но отчего-то никак не хотят ложиться на чистый белый лист; о том, что, хоть ты стресни, не пишется ему о любви, детстве, друзьях, далёких предках, истории страны, экономическом буме, религии, философии, кинематографе, мистике и о том тихом жёлтом доме, где за высоким забором имеют привычки все эти темы чувствовать себя весьма персонифицировано и наиболее свободно.
"Только одни кошмары в голову лезут, -
сетовал он, глядя куда-то мимо меня. - Боюсь я их, очень боюсь. А
записать хоть
один, никак не получается. Кладу белый лист перед собой, гляжу на него,
а слова
приличного не могу подобрать. Так может со мной продолжаться весь день,
до
самой ночи. А ночью почему-то являются мне китайцы. Да, да, самые
настоящие. Я,
естественно, просыпаюсь и к окну подхожу. А за окном - опять одни
китайцы. Ну,
думаю, либо мне шандец, либо еще что-то... Скажите, вот то, что я вам
рассказал, годится для чистого белого листа?"
Я осторожно сказал, что китайцы, поскольку их очень много, годятся в наше время для всего…
* * *
Весь день сегодня было не до шуток: с адским
грохотом метеоритный дождь
обрушился на Челябинск; затем многотонный астероид пролетел в тридцати
трёх
тысячах километрах от Москвы.
Даже тот наш автор, который приходит по пятницам, пришёл всего на несколько минут.
"Извините, спешу, - сказал, - хотя и не верю, что
все мы погибнем в
результате какой-нибудь космической катастрофы. А спешу я, знаете,
почему? Я
спешу потому, что не хочу, чтобы погиб мой очередной замысел книги. А
то
замыслы имеют свойства погибать, не будучи реализованными. Каждый день
бывает у
меня несколько замыслов, один интересней другого, но как из комнаты
выйду - все
погибают.
То же происходит, когда пакет с мусором из дома выношу. А когда супруга моя в магазин меня посылает, то там у меня один замысел - обрушить смертоносный метеоритный дождь на тех, кто таким диким образом цены взвинтил на продукты питания. И, конечно, американская недвижимость депутатов. Тут замысел у меня один: космический астероид на их головы. Но вы не думайте, что я жесток, бесчеловечен и ратую за решение наших земных проблем посредством не наших сил небесных. Но само по себе осознание того обстоятельства, что иначе их не решить, напрочь выбивает меня из творческой колеи. Вот это для меня настоящая катастрофа. У неё, как вы понимаете, масштаб совсем не космический, а пока ещё только личный. Однако всё-таки обидно очень будет, если что-то погибнет во мне и снова не позволит слова честного предельно выразительно написать. Поэтому извините - спешу!"
* * *
Сегодня пятница, и я весь день догадывался, что
может в издательство
придти тот же автор, который приходит по пятницам.
Метель не метель, заносы не заносы, снег не снег, Москва не Москва, а должен прийти. И в зимней шапке. И с новостями. И он пришёл. И чай наш похвалил за то, что россыпью в чайнике заварили. Байховый. Мелкой цейлонской нарезки. И за чаем сказал, что много лет назад, в крещенскую зимнюю ночь собирался броситься в прорубь.
Но не бросился.
"Что же помешало вам?" - спросил я. "Не то, что вы подумали, - сказал он. - Ни в коем разе не боязнь ледяной воды, а жуткое нежелание раздеваться на морозе. Конечно, за компанию и я бы разделся. Но какой от этого прок? Да и потом. Писатель же я, а не морж, не пловец в ледяной акватории. А если разденусь, и это людям не понравится? Что тогда? Вот я и не стал. Ботинки хотел снять, а потом и брючата шерстяные. То бишь сильно засомневался, а надо ли одежду с тела снимать. И не снял. И всю потом крещенскую ночь писал рассказ, как я хотел броситься голый в прорубь, однако не бросился. Рассказ, правда, я тот не закончил, но придумал зато концовку к нему. Хотите вы узнать её?"
Я сказал, что хочу. И он мне сказал, что в самом конце рассказа он в прорубь всё же бросился, а когда вынырнул, на льду уже не было ни брючат шерстяных, ни ботинок…
* * *
Есть у нас и такие авторы, которые не
очень похожи на меня, а есть и такие, которые вылитый я. И это не
мистификация,
а на самом деле. Тот же, который приходит по средам, - тот сам по себе.
Он,
например, приходит в пластиковых галошах, которые я давно не ношу. Он
кашляет в
дверях, а я в кухне. Он бросил курить, а я еще только бросаю. У него
жена часто
и громко смеётся, а у меня тоже смеётся, но не так часто и не так
громко. Он
родился в подмосковных Мытищах, а я на ближайшем сквере. Он ест на
завтрак
пшённую кашу, а я гречневую. Он пьёт кофе, а я чай. Он любит селезней,
а я
уток. Он покупает в магазине водку, настоенную на бруньках, а я на
кожуре на
лимонной. Он умеет лепить домашние пельмени, а я умею их варить. У него
в
комнате стол, а у меня стулья. Он политику ненавидит, а я её обожаю. Он
понимает, что победить коррупцию невозможно, а я его уверяю, что он зря
так
думает. Он глупостей не говорит никогда (даже по средам), а я могу на
всю
контору такое завернуть, что долго все не понимают, о чём это я. Одним
словом,
он оригинален, самобытен, по-своему остроумен, очень много пишет,
сочиняет,
фантазирует, и я не берусь себя с ним сравнивать, как-то сопоставлять и
выдавать себя за него. Он - это он, а я - это я. Такая пропасть между
нами!
* * *
Вчера часов примерно в пять вечера приходил
человек, который пишет давно и успешно. Фамилию его утаю. Знаете так
знаете. Не
в этом корень вечерней ситуации. Она же в том, что чай был английский в
пакетиках,
который пили, а сыр был голландский, который ели. А хлеб был свежий из
магазина, который внизу и где за кассой сидит небольшая взрослая
девушка с
рыжими волосами.
Но я опять не о том. А вот если о том,
то должен сказать, что этот известный автор написал за несколько
месяцев не
очень большой роман листов авторских на 14. Как он ухитрился это
сделать -
тайна великая, и не мне ее обсуждать.
Однако опять не в тому суть. Суть же в том, что чай был английский, а сыр голландский, а хлеб из магазина, который внизу и где, сами понимаете, какая девушка за кассой.
И вот я в тот же вечер его спрашиваю: "Вы так быстро пишите, но всегда оригинально и совершенно в такой манере, в которой никто, кроме вас не пишет. Как вам это удаётся?" И чай уже почти допили и сыр почти доели, и он мне, знаете, что сказал? Он мне сказал:
"Если вас это удивляет, то вот вам мой ответ. Я настолько оригинально пишу потому, что не могу ни летом, ни весной, ни зимой, ни даже осенью писать иначе. Да хоть буря на Солнце или тьма болотная, а всё рано не могу, хоть ты тресни. Я сам не понимаю, какая тут собака зарыта, но дело именно в этом. Больше скажу. Я если обнаглею и начинаю иначе писать, то хрена с два что у меня получает, и я тогда не в издательство с романом прусь через весь город. Я беру и рву всё на глазах моего лохматого пса Витьки и своих обескураженных домочадцев, из которых самая обескураженная всегда моя жена Полина Ивановна… И в этом, на мой взгляд, вся моя оригинальность".
* * *
А вчера приходил человек, который не автор, но в
некоторых вещах
прилично разбирается. Он точно знает, как работает электромеханическая
мясорубка, сколько стоит средней величины кочан капусты, с каким мылом
надо
стирать носки, немного по бензиновому двигателю внутреннего сгорания и
досконально все те слова, которые скажет ему жена, если он на Восьмое
марта
снова подарит ей набор победитовых свёрл.
В психологии он тоже толк знает, а также в личностях, в политике, в экономике, в силах земных и силах небесных. Я понимаю, что ладно бы в силах земных, куда ни шло, а тут еще и в небесных.
А так как он долго никуда не уходил, то, сами понимаете, слово за слово, о том, о сём, о пятом, о двадцатом. В частности, пришлось у него спросить и относительно того (уже давнего) небесного тела, которое с таким грохотом взорвалось на прошлой неделе.
На что он сказал, что у себя в Северном Бутове никакого грохота не слышал, и на него там ничего не падало. Я объяснил, что тело взорвалось на некотором расстоянии от Северного Бутова.
Тогда он спросил: "А ущерб был?" Я сказал: "Был.
Все стёкла в радиусе
шести километров повыбивало". - "Почём?" - "Что почём?" - "Почём
теперь за
стекло?" - "Не знаю. Кажется, в общей сложности на один миллиард рублей
набило". - "И это всего-то?" - "А что? Разве мало?" - "Мало. Это какая-то требуха. Он
даром, что ли,
прилетал и взрывался? Всего на один миллиард! Он бы над Сочи взорвался,
и там
бы трамплин гавкнулся. Это уже не один миллиард, а все тридцать с
гаком. А это - слёзы… Не мог, что ли, миллиардов на десять!
Да что же это они! Кто же такие небесные тела запускает! Я
бы на их
месте вообще ничего не стал запускать. Это и жильцам слаще, и душе
спокойней.
А так, если в будущее глядеть, то я бы не так. Я бы сейчас, загодя каждому ответственному квартиросъёмщику выдал бы по запасному стеклу. На случай пролёта небесного тела подальше от меня и от Северного Бутова".
* * *
А автор всё-таки в пятницу приходил.
Это я забыл вчера сказать. Но меня в издательстве не было, когда он
приходил.
Я был в это время неподалёку от памятника Депутату Балтики, что у Никитских Ворот. А он приходил. И меня спрашивал. Об этом мне потом рассказали, когда я назад вернулся. Мне одна наша женщина рассказала… Блондинка, зимой в рыжей шубе ходит.
"А автор-то приходил и вас спрашивал, - сказала она. - А вас не было..." - "А он что?" - "А он - ничего". - "Совсем?" - "Совсем". - "Но, может, хоть какой-нибудь роман оставил, повесть, поэму, рассказ…" - "Да нет, ничего не оставлял… Просто вас спросил. А я ему сказала, что вас нет". - "А он что?" - "Он спросил, где вы". - "А вы что ответили?" - "А что я могла ответить? Я ответила, что вас нет, и я не знаю, где вы". - "А он?" - "Он сказал, что неподалёку от памятника Депутату Балтики только что видел похожего человека". - "А вы?" - "Я сказала, что это были не вы". - "А он?" - "Он попросил вам передать, что приходил…" - "И всё?" - "Всё. Постоял, покашлял, помолчал, повздыхал и ушёл. А что же еще?" - "Да нет, ничего… Меня же ведь не было".
* * *
"Что-то в текущей нашей современности напоминает мне о том, - сказал он мне, - насколько мало изучена и темна душа человеческая. За последнее время проблесков никаких. Был как-то один тихий проблеск, но быстро угас. Я утром спросил у жены, что это такое было. Она не ответила. Я на жену не удивился. Да и что отвечать? Что?.. Я же ночью не сплю, а она у меня чувствительная женщина. А я писатель. Я весь день пишу, а ночью не сплю. Лягу, а ни в одном глазу. Не могу спать, и всё… А она спит. А когда я, наконец, засыпаю, то она встаёт и зажигает свет в кухне. А утром молчит. И я тогда иду к себе и весь день пишу о том, насколько все-таки мало изучена и темна душа человеческая!"
* * *
Пять авторов за один рабочий день! Это ж надо
такое! И это в четверг,
когда в Москве такой пронзительный холод!
Правда, четверо из них сказали, что ошиблись адресом, а пятый сказал, что хотел бы что-нибудь написать, но пока не знает, с чего начать. На что я ему сказал, что начинать можно с конца, но никогда с середины.
А вообще-то, уж если по существу разбираться, надо стараться всегда приступать к написанию с самого начала. На что он сказал, что это-то он понимает, но никак не получается первая фраза.
Тогда я ему сказал, что первая фраза ни за что не получится, если не будет известно, что будет дальше.
На что он сказал, что надо тогда, раз уж такое дело, внезапно найденное решение как следует спрыснуть. Тогда я сказал, что для чтобы, как он выразился, решение спрыснуть, надо идти, сами понимаете, куда.
"В жопу, что ли?" - спросил он. "Ну так уж сразу! - сказал я. - Зачем же в неё? Всё значительно прозаичней. Надо идти ни в какую не в жопу, а в магазин, который в том же доме, что и издательство".
Он с облегчением вздохнул и тут же почему-то решил, что я пойду, а не он, тогда как я был уверен, что надо идти ему, а не мне.
Затем полчаса мы с ним обсуждали сложившуюся ситуацию и вспоминали похожие случаи из жизни прозаиков и поэтов. А когда я напомнил ему один известной случай еще из советской практики книгоиздания, он, наконец, понял, что меня не свернуть, и идти придётся всё-таки ему, а не мне.
После этого он, сказав пару слов в мой адрес, встал и пошёл, но из магазина назад не вернулся. Из-за чего я решил, что он либо придумал первую фразу, либо понял, какой прозой может закончиться этот рабочий, но пронзительно холодный московский четверг.
*
* *
Ничего сегодня не было замечательного
на работе. Не стану же я рассказывать о том, что книга талантливого
автора,
которая может выйти весной, должна и выйти весной, в самом начале
марта, когда
капель зазвенит и скворцы запоют...
Да что об этом говорить! Это случится обязательно, во что бы то ни стало, и автор мне позвонит и скажет: "Спасибо за то, что под пение скворцов вышла моя книга! Мне кажется, это добрый знак. Вы как думаете, следующая моя книга может выйти под стрёкот июльских кузнечиков?"
И я что на это отвечу? Я скажу, что и под уханье ночного филина выйдет в свет любая самая интересная книга...
И это, по-моему, нескончаемо, поскольку люди всё пишут и пишут, а мы всё издаём и издаём..
По понедельникам в Москве идёт дождь, и
я в условиях повышенной влажности стараюсь записывать за всеми, в том
числе и
за нашими авторами.
Однако сегодня я бы ни шута важного не записал ни за одним из них, если бы уже под вечер от человека с полуавтоматическим зонтом и в непромокаемых черных ботинках не услышал просто-таки нечто выдающееся:
"Господа! А знаете ли вы, что происходящее в ХХI веке очень напоминает то, что происходило в веке ХХ - ну, как бы вроде ни хрена не изменилось? Так... Если вы и такого не знаете, то я вам скажу: надо бы знать. Вот вы все тут хорошие господа, сидите, книжки издаёте, а потому должны помнить, что у нас всегда так: стремясь в будущее, мы с вами, господа, неизбежно и со свистом пролетаем мимо настоящего и попадаем в прошлое. После чего сами себе говорим: "А куда это мы с вами попали?".
* * *
И только почти через час после его исчезновения я сообразил, что это и был тот, кто всегда приходит по пятницам.
Владимир Вестер (Вестерман Владимир Самуилович) - автор книг "Фаворит(ы) Луны" (2005), "Гибель империи" (тот же год, в соавторстве с Леонидом Юзефовичем), "Как уберечься от пули, или жизнь наша советская" (2006, совместно с Геннадием Поповым), "Время партнеров" (2007), "СССР, или другая цивилизация" (2008), "Митрофан Глобусов "Мысли и размышления"" (2010, в соавторстве с Владимиром Буркиным и Артуром Кангиным), "Великие неудачники" (АСТ, 2011, под псевдонимом "Александр Век" и при участии Артура Кангина), "Отель разбитых сердец" (2012). Главный редактор издательства "Зебра Е". Живет в Москве.