Мастер увидел его во время антракта, когда тронутый пением Пелагеи,
сошел в зеркальный вестибюль. Узнал сразу, не обратив внимания ни на
цвет волос, ни на добротный костюм, – узнал по выражению глаз,
страждущих, потерянных, кровянистых. Такие скорбные образы он прежде
видел в церкви, в полутьме, в красной тени от огня лампад, метящих
лица, когда человек открыт Богу, становится боязлив, и в нем можно
узнать кающегося грешника или убийцу.
Хотя этого не должно было быть, ведь
прошло всего восемь лет…
Белесо-рыжий, с залысиной, будто
опалили паяльной лампой, сожгли брови и ресницы, и тем напугали на всю
жизнь, он чуть не заикался, тянул слова,был исполнителен и суетлив.
Юродиво вытаращившись, вникал в поручение, кивал, будто глотал шар, и
вылетал за дверь выполнять.
Косолапо плясал вниз-вниз по винтовой
железной лестнице, позванивая
стальными набойками кирзачей, и казалось, у него кружится голова. Тело
у этого человека было белое, ядреное, зад бабий, широкие штанины, как
две юбки, болтались над голенищами. Сапоги он ваксил усердно, но
неумело, ибо не служил в армии, и после сидения в кустах вакса с
голенищ отпечатывалась трафаретом на заднице.
Глядя на его лицо, лицо богобоязненного
изверга, привезенного сюда отмолить грех, слыша стальной звон за
дверью, где тот винтил-винтил по спирали, будто в преисподнюю,
думалось: неужели он так будет бегать, раздавленный наказанием, все 14
лет? Он не вызывал отвращение, наоборот возбуждал любопытство как
особь. Аккуратная и чистоплотная, по-крестьянски знающая цену еде, и
потому не запихивающая ее жадно в рот, как урки, которые и на воле не
были сыты, а жующего основательно, истово, будто с памятью о предках
хлебопашцах. И сало он резал ритуально, от старания щерясь, делил не
жадничая. И тут опять думалось: почему ж тебе так не жилось прежде? Не
елось сытно, не спалось в чистой постели, где нет прыгающих с потолка
клопов и перебегающих с чужих шконок вшей? И ты пришел сюда, где
голодно, неуютно, а над головой крышка, надежная, как у молочного
бидона, затворяющаяся снаружи мощным рычагом?
Этому плотнику из жалости, он,
когда-то цеховой мастер, писал лишние цифры в нарядах, чтоб легло тому
побольше денег на счет, чтоб заработок не был съеден долгом за суд,
спецовку и телогрейку и какая-то сумма пошла «на ларек», где можно
отовариться за безналичку булкой, консервами.
А Пелагея пела. Мудрым голосом и
жестами гибких рук будто вытаскивала из кудели нити древних
переживаний. Пронзительный этно-рок стелил перед глазами образный ряд,
менял ассоциации. Песни несли совсем другой смыл, нежели тот, что
заключали их слова.
В селе с неизжитым патриархальным
укладом, где до сих пор нет понятия «брат меньший», кошек, собак,
отслуживших, больных, легко уничтожает хозяин, в минуту убийства
включая остервенение, как и горожанин при убийстве таракана. Таракану,
что следит за глазами человека и бежит в паз, не стоит рассчитывать на
снисхождение. Уж если попался, додавят. Будь то трогательная девочка
или гуманист с благообразным лицом. Не пальцем так авторучкой. В щели
добьют жестоко и судорожно.
Это не то, что козла убивать. Чудного
козленка, купленного трогательной девочке, который тоненько блеял и
скакал по комнатам, вызывая восторг своей красотой, – козленка, который
в конце концов вырос в вонючего козла и должен был стать мясом.
Гуманист резал на балконе, но козел сопротивлялся, кричал и хотел жить,
и гуманист сдался, ушел рыдать. Но после вернулся. Кляня в себе труса,
опять воткнул нож в мохнатый бок, еще и еще. Животное будто сжало раны
и не хотело отпускать свою кровь, и на минуту гуманисту почудилось, что
это вовсе не козел головой уперся в тюк и кряхтит, а соперник, любовник
его жены, которого он тут на балконе режет.
Козла он добивал на даче, подвесив за
ноги, перетянув веревкой через жердь. Едва не терял рассудок…
Уверенные руки прибежавшего на вопли
человека перерезали козлу горло.
Этим человеком и был плотник.
Прежде не пожелавший нанимать человека,
чтоб за убой не платить денег, не дарить филе, теперь потрясенный
гуманист хотел потратиться как можно больше. Угощал плотника водкой.
Опьянев, плакал, рассказывал, как жестоко изменяет ему жена, как на
балконе в лице козла ему померещился соперник.
Плотник из его слов ничего не
понимал, жевал и кивал, приговаривая: «Порядок должен быть, а то как
же?»
В селе с патриархальным укладом этот
плотник в пятнадцать лет уверенно
зарезал своего первого бычка, которого кормил с руки хлебной коркой,
целовал в плюшевый нос, а после, взяв тесак, не обратил внимание на
слезы животного.
Мастер иногда с затаенным страхом рассматривал его топор,
оставленный в цеху на верстаке. Аккуратный, ухоженный, с горбатым
черенком и увесистой черной сталью, стертой по краю наждаком в виде
сверкающего полумесяца.
Пьяный, очнувшись на рассвете на полу,
не продрав до конца глаза, плотник утопил этот полумесяц в темени
матери своей матери, полоумной, ходившей под себя, парализованной, – из
жалости к матери, которую очень любил. За бабушку, которая должна была
вот-вот умереть, ему дали 14 лет, и вот он остался один на один со
своим ужасом. Бегал спиралью по лестнице вверх-вниз так, будто хотел
ускорить вращение земли и сместить время. И не понимал, что время надо
смещать до того дня, когда взял за веревку бычка и повел в сарай.
Мастер был вольным, приходил на работу
в литейку, в свой кабинет на втором этаже, откуда спускалась в цех
винтовая стальная лестница. Форму не носил, и это снимало преграду
между ним и несчастными. Он интересовался убийцами, ему рассказывали,
как это произошло, но мастер строил свои версии, которые казались
убедительней их оправдательного вранья. Его просили писать кассационные
жалобы, это поучалось у него хорошо, одному в Верховном суде даже
уменьшили срок.
Плотник сколачивал в литейке ящики для
земляных форм, в которые
заливался с подаваемых ковшей жидкий чугун. Заодно работал помощником
мастера. За то время, что они были вместе, успел рассказать свою жизнь.
Поведал и о гуманисте, и о том, за что убил свою бабку. Мастер понимал,
что плотник убил ее не из жалости к матери, которая мучилась с больной.
А потому,что был слишком пьян, а старуха – слишком отвратительна.
Мастер и плотнику сочинил кассационную
жалобу. Присовокупив к делу свои измышления. Но ответа не дождался. Ибо
сам чуть не попал под суд за доставку заключенным наркотиков.
Оперативники саму передачу наркотиков доказать не смогли, но мастера
все равно уволили за их употребление.
Пелагея запела «Пташечку», жуткую песню
о сиротстве, – и мастер отчетливо увидел себя, малолетнего, на свалке.
Как жует там куриную шкурку, кем-то брошенную, и сладок запах прели,
дающей тепло у него под боком, где он устроился. Его уж больше не
обидит дядя, который собрал детей в комнате, и они ползают голые, торча
острием ягодиц. Ощущают тела друг друга в трогательном инстинкте
самосохранения, желании пищи, в боязни и ревности. И после сладко
дремлют, чуя резкий запах его подмышек, и каждый себе на уме: нет, его
больше не ударят, а за лишнюю боль дадут конфетку, игрушку; и будут в
минуты сна мечты о несбыточном, – о пустоте, откуда вынули маму с
сытным соском.
Кажется, об этом пела Пелагея, а еще
пела о концлагере, который остался где-то в чужой судьбе; там он тоже
себе на уме и старается вне очереди сдать кровь, чтобы больше получить
благ; а затем он умрет и будет знать, что умер, а его в куче со всеми,
как груду червей, будут толкать трактором и зароют; и не будет у него
другой судьбы, судьбы музыканта и походов в филармонию, где появится
молодая жена, раздвинет ноги со слабыми коленями и в миг зачатия, его
озарит на секунду, как перед смертью, – он увидит тот самый концлагерь,
который не состоялся…
Мастер слушал, и ему виделась другая
сиротская судьба… Кажется, сына Германика, выросшего без матери, без
ласки, будущего императора, силу любви и жизнелюбия которого не оценили
и тем обидели во веки веков, и стали называть Калигулой, Сапогом. Как
не могли понять сотни других младенцев, среди них того, который тоже
был рожден для чего-то необычайного, но после первой судороги под рукой
понявшего: вот оно, данное ему Богом, на грани жизни и смерти
бесконечная любовь, к гаснущей плоти сострадание, сопровожденное
оргазмом… и затем отвращение как жалость к себе, несчастному, тоже
непонятому в этом мире, оскорбительно отмеченному в метриках
обыкновенным именем Чикатило…
Концерт закончился, люди встали с мест
и начали аплодировать. Некоторые плакали. Мастер тоже хлопал со слезами
на глазах.
Затем он спускался с толпой по
мраморной лестнице, и вновь оказался у раздевалки, переполненной
зеркальными отражениями.
Конечно же, во время антракта мастер
обознался. И в первую минуту понял, что встретился ему не он, не
плотник, который вызвал такую длинную цепь воспоминаний… Но как
удивительно похожи у грешных людей страждущие глаза!
Толпа увлекала к выходу. Но мастера
неумолимо тянуло туда, где померещился этот плотник. Будто мастер хотел
исправить какую-то ошибку, или в чем-то еще раз убедиться.
Он протолкался к вестибюлю и встал на
то же место напротив стены.
Человек с глазами убийцы опять смотрел
на него…
Мастер поднял руку – и человек поднял.
Мастер попытался улыбнуться, но отражение показало лишь вымученную
гримасу. Мастер подошел к зеркалу ближе.
«Это от экзальтации. От ее песен. Надо взять себя в руки. Так
можно выдать себя», – подумал он.
Стараясь выглядеть бравурнее, он
качнулся на носках, надул щеки, попытался даже выдать что-то вроде
марша.
Постепенно пришел в себя. Приблизил
лицо к зеркалу почти вплотную, кончиками холеных пальцев оттянул вниз
резиновую синеву щек. Будто отоларинголог, тщательно оглядел
кровянистые белки. Затем сделал лицо непроницаемым и растянул губы,
обнажая ровные зубы, как в рекламе зубной пасты «Колгейт». Хотел даже
для убедительности рыкнуть, но сдержался.
«И что я мучаюсь из-за этой мигрантки?
– подумал мастер. – Тощая, с торчащим лобком, – азиатки не чувствуют
боли. Вера у них другая, тут нет греха. Да и труп никто не найдет».
Мастер отошел от зеркала и тихо
направился к выходу.
2013
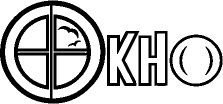
АЙДАР САХИБЗАДИНОВ (Москва)
Тайна мастера
(РАССКАЗ)