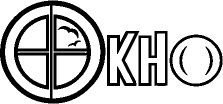Песнь стального соловья
Николай Асеев
Он мог создать
несмываемый временем портрет поэта. О Гарсиа Лорке: "Он срывал
апельсины / И
бросал их в трясины". О Маяковском: "А это надо понимать, / Как девушек
обнимать". И
дальше: "Он обнимал, не
обижая ни одной". Эти строки подтвердила при мне переводчица,
возлюбленная
Маяковского Рита Райт: "Из него сделали агитатора, а он был не такой.
Он был
нежный".
Стихотворение о Лорке - это не только об Испании Франко. Расстрел поэта - постоянная тема Асеева. На самом деле Гарсиа Лорка не срывал апельсины, когда его не вели, а тащили на расстрел. Он хватался за каждую ветку, и апельсины сыпались на землю. Думал ли Асеев о расстреле Гумилева, когда писал о Лорке? Ведь он поначалу, как и все, очень ему подражал. "Меня застрелит белый офицер / Не так - так этак. / Он, целясь, не изменится в лице; / Он очень меток". Асеев всю жизнь расстреливал в себе поэта. А поэт был. "Небо - как будто летящий мрамор / С белыми глыбами облаков, / Словно обломки какого-то храма, / Ниспровергнутого в бездну веков".
Начинал в группе "Центрифуга" в 1914 году вместе с Пастернаком. В поэтическом послании к Пастернаку есть строки, которые о многом заставляют задуматься: "Я из-за гор, из-за сосен, / Пригнувшись - прицелился в ночь, / И - слышишь ли? - эхо доносит / На нас свой повторный донос". Оторопь берет: доносит донос. Ведь это не 37-й, а начало 20-х. и не только о декабристах насмерть зацитированная строка: "Синие гусары под снегом лежат".
Он был насквозь советский поэт. Но иногда побеждал поэт без эпитета. Нам он очень помогал в 60-е годы. Достаточно вспомнить, что В.Соснору, ныне классика петербургского авангарда, в поэзию втащил он, процитировав в "Литературной газете" несколько строк.
Странная история разыгралась в ночь перед гибелью Маяковского. У Асеева непрерывно звонил телефон, а когда поэт брал трубку, чей-то голос повторял, как заведенный: "Ты еще жив? Скоро и тебя укокошим. Лучше застрелись сам". Не удивительно, что получив на сцене записку о гибели Маяковского, Асеев прямо во время выступления стал кричать: "Тут что не так! Его убили". При этом надо помнить, что перед смертью Маяковского от него отреклись все. Даже любимый ученик "Асеев Колька". Причины отречения сложны. Чувствовалась нарастающая политическая опала. Но главным было, конечно, поэтическое соперничество.
Асеева нарекли прямым преемником Маяковского. И он старался, как мог. Но, прямо скажем, перефразируя известную поговорку, не по Кольке шапка. И все же самая лучшая вещь Асеева поэма "Маяковский начинается". В 1941 году он получил за нее Сталинскую премию. И заслуженно. Правда, война затмила успех. А в 60-х, когда поэму переиздали, она оказалась на редкость актуальна в той поэтической душегубке, которую устроил Хрущев, развязав кампанию травли Пастернака, Вознесенского, Евтушенко, Аксенова, Эренбурга, Паустовского.
"О нет, завожу не о форме я споры. / Но только взлечу я над ширью земной, / Заборы, заборы, замки и затворы / Мелькают преградой внизу предо мной". Неужели это в 41-ом году написано? Так смело, так актуально. А ведь там еще и о Хлебникове, и об эмигранте Давиде Бурлюке, и о футуризме, так и не реабилитированном даже нынешней критикой.
Близко с Асеевым я знаком не был. Но в 15 лет раздобыл его телефон из справочника Союза писателей и позвонил. Наглость невероятная. Но поэт не обиделся и выслушал по телефону строки: "Но разве есть у свободы родина? / Свобода - родина всего мира. / Дайте же мне единственную свободу - / свободу не убивать". Пауза в трубке, и после некоторого молчания хрипловатый дребезжащий голос: "Вы думаете, это может быть напечатано?" - "Но ведь Соснора прошел с вашей легкой руки". - "Знали бы вы, чего мне это прохождение стоило". К тому времени травля поэтов усилилась, а сам Асеев получил очередную премию за сборник "Лад", в котором не было ни складу, ни ладу. Как поэт он был признан и сломлен. И все же нет-нет, да и наткнешься, чаще в ранних стихах, на великолепные строки: "Пускай весь мир остальной / Глядится в небесную щелку, / А наш соловей стальной, / А наш зоревун стальной / Уже начинает щелкать". Да, стальным надо быть, чтобы и в живых остаться, и не весь талант растерять.
Чисто случайно оказался я на его похоронах в ЦДЛ. По случаю смерти пота такого ранга очистили зал ресторана с камином и дубовой резьбой. Тут размещалась когда-то масонская ложа, в которой бывал сам Александр II. Орденский профиль Ленина на лацкане пиджака соперничал с таким же чеканным профилем самого Асеева. Он был похож не то на орден, не то на памятник самого себя. А в памяти оживала нежная строка Маяковского: "Правда, есть у нас Асеев Колька. / Этот может. Хватка у него моя".
Абсурд в законе
Эжен Ионеско
"Летят перелетные
стулья / в туманном Дали Сальвадор. / Летят они в дальние страны, / а я
остаюся
с тобой…" Так пели на интеллигентских тусовках в советские времена,
когда "Стулья"
Ионеско, сразу ставшие классикой во всем мире, были запрещены у нас и к
печатанью, и к постановке. Сегодня,
читая и перечитывая пьесу, можно только удивляться: что такое
крамольное
увидели советские генсеки в абсурдистской пьесе?
Ну, да, в домике у реки старичок и его жена
принимают невероятное количество невидимых гостей, рассаживают их на
реальных стульях
и при этом ждут не дождутся кого-то самого главного, который придет и
что-то
скажет. Этот кто-то -
Оратор в цилиндре
и плаще. Его пламенная речь состоит из бессмысленного мычания: "Мгнм…
нмнм… гм… ыгм…" На полуподпольном спектакле актера Зайцева с Таганки он
приходил
со свистком и долго свистел под финальные аплодисменты.
Муза Ионеско - Лысая певица. Пьеса с таким названием в постановке Батая триумфально прошла в Париже 11-го мая 1950-го года. Вся прелесть в том, что никакой лысой певицы в пьесе нет. Представляете пьесу Чехова "Дядя Ваня" без дяди Вани? Вот какой прорыв совершился в мировой драматургии в самой серединной точке 20-го века.
Умение Ионеско заполнить действие буквально ничем - это как игра на скрипке без скрипки, одним смычком. Даже беспредметная живопись - это все же музыка и гармония композиции и цвета. А тут, шутка сказать, гениальные пьесы и все как бы ни о чем. Ведь в том-то и мулька, что ровным счетом ничего не происходит и в "Стульях", и в "Носороге". Никто никогда не узнает, что творилось в этих темных мозгах лидеров партии, именовавшей себя не иначе как "коллективный разум". Но коллективным бывает только безумие. Разум всегда индивидуален. Ионеско это показал во всех своих пьесах. Его "Носорог" пришел из беседы двух гениев ХХ века, тоже почти запрещенных в СССР. Профессор, лорд Бертран Рассел в разговоре со студентом Людвигом Витгенштейном заметил, что есть вещи очевидные, которые не нуждаются в доказательствах. "Я вас не понимаю", - ответил Витгенштейн. - "Ну, например, очевидно, что в этой комнате нет носорога". - "Почему вы так решили?" - парировал студент. Ионеско решил сделать видимым этого незримого носорога, который на самом деле есть в каждой комнате. Где двое, там и носорог с нами.
Все думают, что нет ничего проще абсурда. На самом же деле абсурдное высказывание вообще невозможно. Что ни скажешь, обязательно проявится хоть какой-нибудь смысл. Ионеско удалось создать абсурдную драматургию. Эффект в том, что все изъясняются вполне осмысленно, как в пьесе Чехова, а в целом - абсурд. Иногда мне даже кажется, что Ионеско вычитал свой абсурд именно в пьесах Чехова. "Дорогой многоуважаемый шкаф…" Тут шкаф, а там стулья.
Когда запреты отпали, Ионеско на нашей почве как-то не прижился. Абсурд нашей жизни перекрывает всех Ионеско и Пинтеров. Скажу больше, Ионеско не воспринимается у нас, как абсурд. Просто картинки из жизни и все. Причем, довольно обыденные и повседневные. Кроме того, наша публика привыкла, что ее куда-то ведут и к чему-то призывают. А тут не ведут, не призывают, не агитируют. Скорее наоборот - раскодируют от любого идеологического запоя.
Вроде бы все герои в его пьесах изъясняются простым человеческим языком, а написано явным инопланетянином или, как теперь говорят, космически контактером. Абсурд - закон Космоса. Этот закон Ионеско так же достоверен, как закон всемирного тяготения. Он поставил в своих пьесах интересный эксперимент: может ли человек оставаться самим собой посреди абсурда. Оказывается, может. Кстати, сам Ионеско был против термина "абсурдизм". Он утверждал, что его пьесы реалистичны, и абсурдны они ровно настолько, насколько абсурден реальный мир. Может быть, именно такая позиция и такой взгляд на вещи помогли ему уютно дожить в стремительно меняющемся мире до 1994-го кода. Когда, например, у нас в России никто уже ничего не понимал и уже не стремился понять. Он дожил до своего времени, что удается отнюдь не каждому драматургу. Театр Ионеско давно перестал быть просто театром. Теперь это повседневная жизнь. А нет ничего сложнее для настоящего драматурга, чем воспроизвести безумие повседневности.